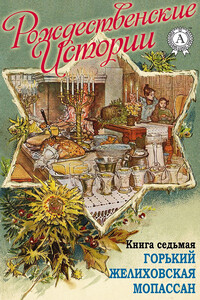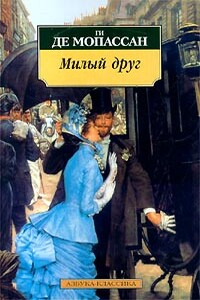И это не все. Он сотворил людей, поедающих друг друга. А потом, когда он увидел, что люди становятся лучше, чем он, он сотворил животных, чтобы видеть, как люди охотятся за ними, убивают их и съедают. И это еще не все. Он сотворил крохотных животных, живущих один только день, мошек, издыхающих миллиардами за один час, муравьев, которых давят ногой, и много-много других, столько, что мы и вообразить этого не можем. И все эти существа убивают друг друга, охотятся друг за другом, пожирают друг друга и беспрерывно умирают. А милосердный бог глядит и радуется, ибо он-то видит всех, как самых больших, так и самых малых, тех, что в капле воды, и тех, что на других планетах. Он смотрит на них и радуется. О каналья!
Тогда и я, сударь, стал убивать – убивать детей. Я сыграл с ним штуку. Эти-то достались не ему. Не ему, а мне. И я бы еще многих убил, да вы меня схватили… Да!..
Меня должны были казнить на гильотине. Меня! Как бы он стал тогда потешаться, гадина! Тогда я потребовал священника и налгал. Я исповедался. Я солгал – и остался жив.
А теперь кончено. Я не могу больше ускользнуть от него. Но я не боюсь его, сударь, – я слишком его презираю.
Было страшно видеть этого несчастного, который задыхался в предсмертной икоте, раскрывая огромный рот, чтобы извергнуть несколько еле слышных слов, хрипел и, срывая простыню со своего тюфяка, двигал исхудалыми ногами под черным одеялом, как бы собираясь бежать.
О страшное существо и страшное воспоминание!
Я спросил его:
– Больше вам нечего сказать?
– Нечего, сударь.
– Тогда прощайте!
– Прощайте, сударь, рано или поздно…
Я повернулся к смертельно бледному священнику, который стоял у стены высоким темным силуэтом.
– Вы остаетесь, господин аббат?
– Остаюсь.
Тогда умирающий проговорил, издеваясь:
– Да, да, он посылает своих воронов на трупы.
С меня было довольно; я отворил дверь и поспешил уйти.