Мозес - [56]
О событиях, ставших много лет назад причиной этого предполагаемого или действительного проклятья, Давиду пришлось узнать, впрочем, много позже. Но когда весной 2002 года рабби Ицхак умер в Хадасе от почечной недостаточности и сухая иерусалимская земля укрыла его завернутое в саван тело, Давид не позволил себе даже самой малой доли иронии в отношении несбывшихся ожиданий своего старого учителя, как, впрочем, не позволил он себе и тени сомнения в истинности его странных подозрений. В конечном счете рабби Ицхак все равно оказался прав, – особенно ясно Давид ощутил это здесь, стоя среди белых надгробий на южном склоне Еврейского кладбища и глядя, как осыпается в могильную яму ржавая земля, – ибо всякая смерть, закрывшая глаза тому, кто умер, так и не дождавшись прихода Машиаха, выглядела именно как проклятье и наказание, и только таящееся в глубине ее искупление, (беззвучная мелодия которого, казалось, шла от этого высокого неба и от висящей над Иерусалимом гряды золотых облаков и отцветающих среди камней маков) – только одно это искупление наделяло смыслом и эту смерть, и эту нелепую надежду, и всю эту долгую, предшествующую ей жизнь.
Уже потом, перебирая в памяти их редкие встречи и перечитывая письма, Давид все больше убеждался, что тяготевшее над рабби проклятие можно было посчитать, пожалуй, тем главным событием его жизни, через призму которого он оценивал и понимал все остальное. Так, словно это была ось, вокруг которой кружила его мысль, возвращаясь к нему вновь и вновь и наводя на подозрение, что и жизнь рабби Ицхака со всеми ее крупными и мелкими деталями, обреченная разворачиваться вокруг этого устрашающего и непостижимого омфалоса, скорее всего, не имеет сама по себе никакого значения.
Похоже, об этом же свидетельствовала и та манера, в которой рабби, как правило, предпочитал говорить о себе – и которую Давид называл Манерой Ускользающей Откровенности.
Несомненная реальность проклятья (какой она выглядела, по крайней мере, в глазах самого рабби) не делала его более понятным, тем более – желанным. Наказание можно было нести со смирением, но его невозможно было любить, как невозможно было любить орудие пытки, даже если оно было приготовлено и занесено над тобой самим Всемогущим. Да и само смирение – каким бы искренним оно ни было – выглядело, на самом деле, не вполне безупречно. Словно за ним, в самой глубине сердца, скрывалось совсем другое чувство, которое, впрочем, и не думало ни отрицать это смирение, ни сомневаться в его искренности, – оно просто существовало само по себе, не нуждаясь ни в чьем разрешении или одобрении, как не нуждается в этом осенний дождь или утренняя заря.
Всегда охотно отвечая на вопросы о себе и своей жизни, и тем самым охотно принимая ее неизбежность, сам рабби Ицхак вдруг словно исчезал из своего рассказа – будто все происходившее с ним когда-то, в действительности, не имело к нему никакого отношения. Так, словно смиряясь с неизбежностью самих фактов, он, странным образом, не только не придавал им никакого серьезного значения, но и чувствовал себя свободным от их принуждающей власти, иронически или, чаще, безучастно созерцая эти факты со стороны, и не стыдясь показать их другим – словно экскурсовод, знакомящий посетителей с содержанием музейных витрин, за стеклом которых находились, возможно, занимательные, но, увы, вполне бесполезные экспонаты. Иногда складывалось впечатление, что рассказчик вдруг оставлял слушателей один на один с неким литературным произведением носившим название «Жизнь рабби Ицхака бен Иегуды Зака», в котором главным действующим лицом был некто, носящий это вынесенное в заголовок имя, и, однако, ничего общего не имеющий со своим реальным прототипом.
Со временем, Давид перестал сомневаться в том, что за ускользающей, подчас подчеркнуто иронической манерой рассказов рабби таилось все же нечто большее, чем простая ирония или отсутствие тщеславия. Руководствовался ли он при этом ненавистью к этим фактам? Нежеланием признать их очевидную власть? Жаждой избавления? Пожалуй, это совсем не походило на тяжбу с Божественной волей. В смешной попытке ускользнуть от своей собственной судьбы скорее проступало трогательное желание освободиться от всего того, что, так или иначе, преграждало путь к Божественному свету, – ибо именно тяготеющее над ним проклятье, оставаясь приговором высшей справедливости, с которым приходилось смиряться, было – вместе с тем – и грозным знаком отверженности, – так, словно между рабби Ицхаком и Всемогущим пролегла, подобно каменной стене, его собственная, ненавистная и непонятная жизнь.
Скрывал ли рабби Ицхак эту ненависть от самого себя или же он принимал ее с тем же смирением, что и положенное на его род проклятье, – об этом долгое время Давид мог только догадываться. Во всяком случае, ему не составляло большого труда время от времени ловить учителя на неизбежно возникающих в этой ситуации противоречиях, на которые сам рабби, вероятно, просто не обращал внимания. Впрочем, со временем эти противоречия перестали беспокоить и самого Давида.
«Путь, по которому мы идем, это всего только путь», – любил повторять рабби Ицхак, охотно поясняя (когда его спрашивали), что жизнь – это только место испытания, которые мы проходим, чтобы достичь желаемого.
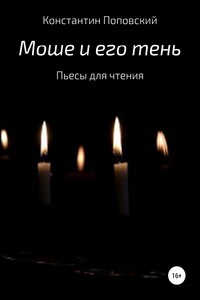
"Пьесы Константина Поповского – явление весьма своеобразное. Мир, населенный библейскими, мифологическими, переосмысленными литературными персонажами, окруженными вымышленными автором фигурами, существует по законам сна – всё знакомо и в то же время – неузнаваемо… Парадоксальное развитие действия и мысли заставляют читателя напряженно вдумываться в смысл происходящего, и автор, как Вергилий, ведет его по этому загадочному миру."Яков Гордин.

"Современная отечественная драматургия предстает особой формой «новой искренности», говорением-внутри-себя-и-только-о-себе; любая метафора оборачивается здесь внутрь, но не вовне субъекта. При всех удачах этого направления, оно очень ограничено. Редчайшее исключение на этом фоне – пьесы Константина Поповского, насыщенные интеллектуальной рефлексией, отсылающие к культурной памяти, построенные на парадоксе и притче, связанные с центральными архетипами мирового наследия". Данила Давыдов, литературовед, редактор, литературный критик.

Кажущаяся ненужность приведенных ниже комментариев – не обманывает. Взятые из неопубликованного романа "Мозес", они, конечно, ничего не комментируют и не проясняют. И, тем не менее, эти комментарии имеют, кажется, одно неоспоримое достоинство. Не занимаясь филологическим, историческим и прочими анализами, они указывают на пространство, лежащее за пространством приведенных здесь текстов, – позволяют расслышать мелодию, которая дает себя знать уже после того, как закрылся занавес и зрители разошлись по домам.

Патерик – не совсем обычный жанр, который является частью великой христианской литературы. Это небольшие истории, повествующие о житии и духовных подвигах монахов. И они всегда серьезны. Такова традиция. Но есть и другая – это традиция смеха и веселья. Она не критикует, но пытается понять, не оскорбляет, но радует и веселит. Но главное – не это. Эта книга о том, что человек часто принимает за истину то, что истиной не является. И ещё она напоминает нам о том, что истина приходит к тебе в первозданной тишине, которая все еще помнит, как Всемогущий благословил день шестой.

Автор не причисляет себя ни к какой религии, поэтому он легко дает своим героям право голоса, чем они, без зазрения совести и пользуются, оставаясь, при этом, по-прежнему католиками, иудеями или православными, но в глубине души всегда готовыми оставить конфессиональные различия ради Истины. "Фантастическое впечатление от Гамлета Константина Поповского, когда ждешь, как это обернется пародией или фарсом, потому что не может же современный русский пятистопник продлить и выдержать английский времен Елизаветы, времен "Глобуса", авторства Шекспира, но не происходит ни фарса, ни пародии, происходит непредвиденное, потому что русская речь, раздвоившись как язык мудрой змеи, касаясь того и этого берегов, не только никуда не проваливается, но, держась лишь на собственном порыве, образует ещё одну самостоятельную трагедию на тему принца-виттенбергского студента, быть или не быть и флейты-позвоночника, растворяясь в изменяющем сознании читателя до трепетного восторга в финале…" Андрей Тавров.

"По согласному мнению и новых и древних теологов Бога нельзя принудить. Например, Его нельзя принудить услышать наши жалобы и мольбы, тем более, ответить на них…Но разве сущность населяющих Аид, Шеол или Кум теней не суть только плач, только жалоба, только похожая на порыв осеннего ветра мольба? Чем же еще заняты они, эти тени, как ни тем, чтобы принудить Бога услышать их и им ответить? Конечно, они не хуже нас знают, что Бога принудить нельзя. Но не вся ли Вечность у них в запасе?"Константин Поповский "Фрагменты и мелодии".