Мозес - [48]
Потом он поймал ее взгляд. Не быстрый, равнодушный, не видящий тебя, а к его удивлению, внимательный, изучающий и спокойный. Как будто она захотела вдруг понять что-то важное, и теперь это желание никак не давало ей покоя. Впрочем, что-то в выражении ее лица показалось ему странным. Так, словно она уже давно подстерегала его и теперь, наконец, отбросив все условности и приличия, рассматривала, решая одной ей известные уравнения. Кажется, в ответ он улыбнулся и еще раз поприветствовал ее поднятым над головой стаканом.
Похоже, она тоже улыбнулась тогда, Давид.
Во всяком случае, когда он выпил, она уже пересекла комнату и подходила к нему.
Возможно, он успел за это время что-нибудь подумать. Что-нибудь вроде «представляю, какая у меня сейчас рожа» или «хорошо, что я не успел смешать водку с красным
– Ты так пьешь, как будто завтра конец света, – сказала Ольга, останавливаясь рядом.
– Не исключено, – ответил Давид, улыбаясь против собственного желания и, одновременно представляя, насколько жалко выглядела сейчас эта нелепая улыбка.
– Видел этих дураков? Не догадался их снять? Могло бы получиться.
– В следующий раз, – Давид опасался, что она слышит, как дрожит его голос.
– Следующего раза, как известно, может и не быть, – и она засмеялась.
Так, как будто имела в виду что-то совсем другое, чем то, о чем шла речь.
Потом она сказала – негромко и спокойно, как само собой разумеющееся:
– Не хочешь проводить меня домой?
Глаза ее смотрели на него так, словно в ее предложении не было никакого подвоха.
Просто проводить и ничего больше, ну, кроме разве того, что она никогда прежде не смотрела на него так обескураживающе откровенно, и, тем более, никогда не предлагала проводить ее домой, как будто это было совершенно в порядке вещей, и он только тем всю жизнь и занимался, что провожал ее до дома.
– Ты уверена? – спросил он, пытаясь изо всех сил сосредоточиться. – В том смысле, что я, кажется, немного перебрал.
Собственный голос вдруг показался ему чужим.
– Мне нравится, – улыбнулась она. – По-моему, в самый раз.
– Это главное, – сказал он, лишь бы что-нибудь сказать, чувствуя – что-то происходит, но что именно, было пока еще неясно.
Вспоминая позже этот вечер, он обратил внимание, что совершенно не помнит, что было потом. Какие-то отдельные кадры всплывали в памяти, чтобы затем померкнуть навсегда. Чей-то смех, поиски потерявшейся куртки, какие-то объяснения на лестничной площадке. Последнее, что он помнил, был, кажется, взгляд Анны, вышедшей в прихожую и говорящую что-то насчет такси.
Потом он открыл глаза и вдруг сообразил, что едет в такси, а рядом, прижавшись к нему плечом, сидит Ольга.
– По-моему, мы куда-то едем, – сказал он, все еще не очень хорошо понимая, что происходит.
– По-моему, тоже, – кивнула Ольга.
Затем он протрезвел. Как-то сразу, без всякого перехода. Только что был довольно прилично пьян, так что чувствовал, как у него заплетается язык и плывет под ногами земля, – и вдруг оказался вполне в норме, и это, похоже, было связано с какой-то ерундой, которая только что пришла ему в голову, – именно с этим, сэр – с какой-то странной и нелепой мыслью, от которой, похоже, он сразу пришел в себя, или, во всяком случае, стал уже приходить в себя, недоумевая, откуда берутся в голове такие вот нелепости, как эта, – уж, наверное, не оттуда, где знали и обсуждали каждый твой шаг, потому что это была мысль о новом доказательстве бытия Божьего – очевидном и несомненном, как бывает несомненен весенний дождь или смех отроковицы, как несомненен этот запах и эти мелькающие за окном электрические блики, и затылок таксиста, и еще тысячи вещей, которые складывались в одно неопровержимое доказательство, которым была, конечно, она сама, сидящая рядом и прижавшаяся к нему плечом, так что он чувствовал ее тепло и слабый запах духов, – все того же «Золотого луга», конечно, можно было даже не сомневаться, – одним словом, доказательство бытия Божьего, как оно открылось ему в эту ночь, – это сидящее рядом с ним доказательство, о котором свидетельствовали и слабый запах ее духов, и ее волосы, которые лезли ему на лоб, и эта ночь, которая длилась и длилась, и похоже, совсем не собиралась кончаться.
Доказательство бытия Божьего, сэр.
Доказательство бытия Божьего, Давид.
– Господи, – он пытался разглядеть за окнами хоть что-нибудь. – Куда мы едем-то?
– Узнаешь, – она не подняла головы.
– Если это сюрприз, то он тебе удался, – он не очень хорошо представлял, что ему следует делать дальше.
– Еще бы, – сказала она, не двигаясь. – Какой же это сюрприз, который не удается?
Возможно, от него ждали совсем не этого, когда он закинул руку и обнял ее за плечи. Потом, положив ладонь на ее волосы, попытался повернуть к себе ее голову, одновременно ища ее губы.
– Подожди, – сказала она, отворачиваясь. – Подожди, не надо…
– Почему?
– Не надо, – повторила она, не делая, впрочем, никаких попыток вырваться.
Возможно, стоило бы попробовать еще раз. Но почему-то он не стал.
– Ладно, – сказал он, отпуская ее.
В конце концов, подумал он, сдаваясь, я только знакомый пьяный, которого везут неизвестно куда и зачем.
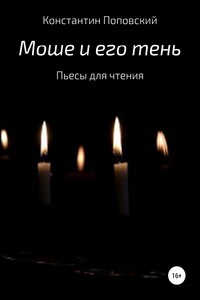
"Пьесы Константина Поповского – явление весьма своеобразное. Мир, населенный библейскими, мифологическими, переосмысленными литературными персонажами, окруженными вымышленными автором фигурами, существует по законам сна – всё знакомо и в то же время – неузнаваемо… Парадоксальное развитие действия и мысли заставляют читателя напряженно вдумываться в смысл происходящего, и автор, как Вергилий, ведет его по этому загадочному миру."Яков Гордин.

"Современная отечественная драматургия предстает особой формой «новой искренности», говорением-внутри-себя-и-только-о-себе; любая метафора оборачивается здесь внутрь, но не вовне субъекта. При всех удачах этого направления, оно очень ограничено. Редчайшее исключение на этом фоне – пьесы Константина Поповского, насыщенные интеллектуальной рефлексией, отсылающие к культурной памяти, построенные на парадоксе и притче, связанные с центральными архетипами мирового наследия". Данила Давыдов, литературовед, редактор, литературный критик.

Кажущаяся ненужность приведенных ниже комментариев – не обманывает. Взятые из неопубликованного романа "Мозес", они, конечно, ничего не комментируют и не проясняют. И, тем не менее, эти комментарии имеют, кажется, одно неоспоримое достоинство. Не занимаясь филологическим, историческим и прочими анализами, они указывают на пространство, лежащее за пространством приведенных здесь текстов, – позволяют расслышать мелодию, которая дает себя знать уже после того, как закрылся занавес и зрители разошлись по домам.

Патерик – не совсем обычный жанр, который является частью великой христианской литературы. Это небольшие истории, повествующие о житии и духовных подвигах монахов. И они всегда серьезны. Такова традиция. Но есть и другая – это традиция смеха и веселья. Она не критикует, но пытается понять, не оскорбляет, но радует и веселит. Но главное – не это. Эта книга о том, что человек часто принимает за истину то, что истиной не является. И ещё она напоминает нам о том, что истина приходит к тебе в первозданной тишине, которая все еще помнит, как Всемогущий благословил день шестой.

Автор не причисляет себя ни к какой религии, поэтому он легко дает своим героям право голоса, чем они, без зазрения совести и пользуются, оставаясь, при этом, по-прежнему католиками, иудеями или православными, но в глубине души всегда готовыми оставить конфессиональные различия ради Истины. "Фантастическое впечатление от Гамлета Константина Поповского, когда ждешь, как это обернется пародией или фарсом, потому что не может же современный русский пятистопник продлить и выдержать английский времен Елизаветы, времен "Глобуса", авторства Шекспира, но не происходит ни фарса, ни пародии, происходит непредвиденное, потому что русская речь, раздвоившись как язык мудрой змеи, касаясь того и этого берегов, не только никуда не проваливается, но, держась лишь на собственном порыве, образует ещё одну самостоятельную трагедию на тему принца-виттенбергского студента, быть или не быть и флейты-позвоночника, растворяясь в изменяющем сознании читателя до трепетного восторга в финале…" Андрей Тавров.

"По согласному мнению и новых и древних теологов Бога нельзя принудить. Например, Его нельзя принудить услышать наши жалобы и мольбы, тем более, ответить на них…Но разве сущность населяющих Аид, Шеол или Кум теней не суть только плач, только жалоба, только похожая на порыв осеннего ветра мольба? Чем же еще заняты они, эти тени, как ни тем, чтобы принудить Бога услышать их и им ответить? Конечно, они не хуже нас знают, что Бога принудить нельзя. Но не вся ли Вечность у них в запасе?"Константин Поповский "Фрагменты и мелодии".