Мозес - [41]
Между тем, слегка отдышавшись рабби сказал:
– Жаль, ты не видишь сейчас своего лица, мальчик.
Потом он мягко улыбнулся, словно подавая Давиду знак, что ничего особенного, слава Всевышнему, не произошло.
Так, словно речь шла о каком-то не стоящим внимания пустяке.
– Это всего только книжка, а ты испугался, как будто я показал тебе змею… Поверь мне, мальчик, книжки не кусаются. Кусаются люди, которые думают, что знают истину лучше Того, Кто сам есть Истина.
Конечно, Давид что-то возразил тогда ему в ответ. Что-нибудь не слишком существенное, вроде того, что «все евреи знают» или «если бы мой отец это увидел», – одним словом, какую-то жалкую ерунду, которая, впрочем, могла бы навести на мысль, что его величество Случай уже постучал в его двери, тасуя по своему произволу с неизбежностью грядущие события.
В конце концов, воробей, открывающий дверцы потаенного шкафчика, был ничуть не хуже гусей, спасающих Рим и меняющих ход истории. Другое дело, что исполнив свое предназначение, он лежал теперь, никому не нужный, на краю стола и на его открытом клюве виднелась маленькая капля крови.
– Бедный герой, – сказал рабби, засовывая мертвую птицу в бумажный конверт. – А мы даже не знаем его имени…
Потом он положил конверт рядом с Евангелием и добавил:
– Мой отец… Вот кто положил этому начало… Если ты не против, я быстренько подмету…
– Я помогу, – сказал Давид, немного приходя в себя.
– Сделай такую милость. Если Хана узнает, потом не оберешься разговоров…Ты ведь знаешь – она верит во всякую ерунду, вроде той, что залетевшая в дом птица обещает чью-то смерть… Вот, возьми совок.
Подметая осколки стекла, Давид вдруг поймал себя на мысли, что эта торопливая уборка предназначалась, скорее, не столько для того, чтобы навести в кабинете порядок, а для того, чтобы поскорее скрыть те страшные следы преступления, которые лежали на столе, нагло демонстрируя свою безнаказанность.
Случайность, в мгновение ока ставшая неизбежностью, с которой, пожалуй, не смогли бы совладать даже сами Небеса.
– Так вот, мой отец, Давид, – сказал рабби Ицхак Зак, поправляя задетые воробьем рамки на стене. – Ты знаешь, о ком я говорю, – рука его легко взлетела в сторону, указывая на фотографию, на которой были изображены все три Зака. – Однажды он позвал меня к себе, но перед этим убедился, что в доме никого нет, затем закрыл входную дверь и дверь, которая вела в его кабинет и, кажется, даже задернул шторы и включил электрическую лампу. И только после этого усадил меня вот в это самое кресло и сказал… До сих пор слышу его негромкий, с астматическим придыханием голос, который произнес: «Сегодня пришло время, Ицик, познакомить тебя с книгой, которая составляет гордость еврейского народа и его позор…Гордость за то, что он родил последнего пророка, видящего и понимающего дальше и больше, чем все прочие. И позор за то, что он не разглядел глубины и своевременности того, о чем попытался рассказать им Этот Человек».
Он собрал разлетевшиеся по столу бумаги и добавил:
– Наверное, у меня тогда было такое же выражение лица, как сегодня у тебя.
Что было, пожалуй, совсем не удивительно, отметил Давид.
В конце концов, случившееся было катастрофой, – пусть даже катастрофой, так сказать, местного масштаба, но, тем не менее, вполне способной поколебать твердое основание веры, поставив под сомнение то, что с детства казалось незыблемым и очевидным.
Нищий проповедник из всеми забытого Назарета, пророк, пророчествующий перед такой же нищей и грязной толпой, как и он сам, богохульник, называющий себя Сыном Божиим, к тому же окончивший свою жизнь на римском кресте, – в этом чувствовался какой-то первобытный, мистический ужас, как будто проклятия, две тысячи лет сыпавшиеся на этого галилейского бродягу, сделали отравленным все то, что могло к нему прикоснуться, неважно – были ли это книги, строения или даже мысли, превращающие в нечистое все, к чему они прикасались, так что приходилось быть крайне осмотрительным, чтобы не оказаться испачканным этой двухтысячелетней грязью.
Во всяком случае, так было до этого дня, когда злосчастный воробей поставил все с ног на голову, подобно тому, как много лет назад отец рабби Ицхака положил перед ним на стол раскрытое Евангелие.
– Потому что, что бы там не говорили, – сказал рабби, бросая в форточку испорченное воробьем печенье, – он был и остается Божиим посланником и не его вина, что никто не захотел услышать то, о чем он попытался нам рассказать.
Кажется, Давид, все еще сраженный услышанным, сказал тогда в ответ что-то по поводу того, что народ сам прекрасно знает, кого ему следует исторгнуть из своей среды, как, впрочем, это и случилось с этим галилейским пророком, чье имя до сих пор вызывает у многих дрожь отвращения.
Тогда рабби, кажется, впервые сказал свою знаменитую фразу, которую ему часто потом припоминали.
– Эмоции не делают нас ближе к истине, – сказал он, усаживаясь, наконец, за стол и приглашая Давида последовать его примеру. Потом он добавил:
– Иначе истиной обладали бы футбольные фанаты, политики и сумасшедшие.
Возможно, Давид хотел что-то возразить на это, но затем передумал.
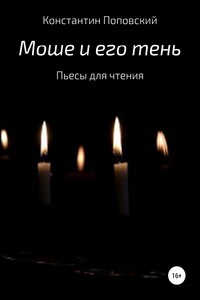
"Пьесы Константина Поповского – явление весьма своеобразное. Мир, населенный библейскими, мифологическими, переосмысленными литературными персонажами, окруженными вымышленными автором фигурами, существует по законам сна – всё знакомо и в то же время – неузнаваемо… Парадоксальное развитие действия и мысли заставляют читателя напряженно вдумываться в смысл происходящего, и автор, как Вергилий, ведет его по этому загадочному миру."Яков Гордин.

"Современная отечественная драматургия предстает особой формой «новой искренности», говорением-внутри-себя-и-только-о-себе; любая метафора оборачивается здесь внутрь, но не вовне субъекта. При всех удачах этого направления, оно очень ограничено. Редчайшее исключение на этом фоне – пьесы Константина Поповского, насыщенные интеллектуальной рефлексией, отсылающие к культурной памяти, построенные на парадоксе и притче, связанные с центральными архетипами мирового наследия". Данила Давыдов, литературовед, редактор, литературный критик.

Кажущаяся ненужность приведенных ниже комментариев – не обманывает. Взятые из неопубликованного романа "Мозес", они, конечно, ничего не комментируют и не проясняют. И, тем не менее, эти комментарии имеют, кажется, одно неоспоримое достоинство. Не занимаясь филологическим, историческим и прочими анализами, они указывают на пространство, лежащее за пространством приведенных здесь текстов, – позволяют расслышать мелодию, которая дает себя знать уже после того, как закрылся занавес и зрители разошлись по домам.

Патерик – не совсем обычный жанр, который является частью великой христианской литературы. Это небольшие истории, повествующие о житии и духовных подвигах монахов. И они всегда серьезны. Такова традиция. Но есть и другая – это традиция смеха и веселья. Она не критикует, но пытается понять, не оскорбляет, но радует и веселит. Но главное – не это. Эта книга о том, что человек часто принимает за истину то, что истиной не является. И ещё она напоминает нам о том, что истина приходит к тебе в первозданной тишине, которая все еще помнит, как Всемогущий благословил день шестой.

Автор не причисляет себя ни к какой религии, поэтому он легко дает своим героям право голоса, чем они, без зазрения совести и пользуются, оставаясь, при этом, по-прежнему католиками, иудеями или православными, но в глубине души всегда готовыми оставить конфессиональные различия ради Истины. "Фантастическое впечатление от Гамлета Константина Поповского, когда ждешь, как это обернется пародией или фарсом, потому что не может же современный русский пятистопник продлить и выдержать английский времен Елизаветы, времен "Глобуса", авторства Шекспира, но не происходит ни фарса, ни пародии, происходит непредвиденное, потому что русская речь, раздвоившись как язык мудрой змеи, касаясь того и этого берегов, не только никуда не проваливается, но, держась лишь на собственном порыве, образует ещё одну самостоятельную трагедию на тему принца-виттенбергского студента, быть или не быть и флейты-позвоночника, растворяясь в изменяющем сознании читателя до трепетного восторга в финале…" Андрей Тавров.

"По согласному мнению и новых и древних теологов Бога нельзя принудить. Например, Его нельзя принудить услышать наши жалобы и мольбы, тем более, ответить на них…Но разве сущность населяющих Аид, Шеол или Кум теней не суть только плач, только жалоба, только похожая на порыв осеннего ветра мольба? Чем же еще заняты они, эти тени, как ни тем, чтобы принудить Бога услышать их и им ответить? Конечно, они не хуже нас знают, что Бога принудить нельзя. Но не вся ли Вечность у них в запасе?"Константин Поповский "Фрагменты и мелодии".