Мозес - [3]
Похоже, оно уже, и правда, стояло за дверью, – это ужасное и постыдное.
Съеденное внезапно нахлынувшими из померкших окон сумерками пространство класса стало значительно меньше, – легли на лица тени и потускнели краски, – и только листы лежащей на столе перед рабби Ицхаком Книги по-прежнему излучали теплый жемчужный свет, в круг которого, повинуясь приказу рабби Ицхака, Давид готовился теперь войти – надеясь, что эти испещренные черными буквами страницы, лежащие в центре мерцающего пространства, должны были защитить его от позора и унижения, уже коснувшихся его негодующим шепотом и негромким смехом.
Его нагота – непристойная и кощунственная – была пока еще только чуть различима в окутавшей класс темноте, но сейчас, когда ему, наконец, предстояло войти в этот световой круг, чтобы испытать последнюю степень унижения и оставленности. Становилось ясно, что эта нагота уже не могла быть преодолена ни бегством, ни отступлением, ни даже жалкой попыткой спрятать ее, укрыв оберегающим покровом одежды. Похоже, происходящее указывало ему единственно возможный выход, который следовало искать в каком-то скрытом соответствии, существовавшем между этой постыдной наготой и плывущим вокруг Книги сиянием, – между бесстыдной абсурдностью обнаженной плоти и этими повисшими над страницами буквами, которые, наливаясь то красным, то белым, то голубым, уже росли и ветвились, сплетая невероятные узоры, образуя глубину и объем, и раздвигая границы света, чтобы немедленно прорасти в это новое пространство, наполнив его шорохом листьев и немыслимыми переливами красок, – разросшийся «коф» цеплялся за пустивший корни «алеф», «мем» сплетался с «тафом», провиснув воздушной аркой над разбросавшим свои побеги «шином», уносился в умопомрачительную высоту стремительный «гимель», толстый ствол «вава» тянулся вверх, прочь от травянистого ковра «иодов» и нежных стеблей «нунов» и «коф-софитов», – оплетавший ствол ветвистого «цади» «ламед» был подобен виноградной лозе, а ветви «айна» легко стелились по земле, путаясь в побегах «зайна», – и все эти коралловые заросли и переплетенные кроны светились, переливаясь и пульсируя. Они то вспыхивали кипящим золотом, то загорались изумрудным, сиреневым или молочно-белым магическим светом, который – потеснив из памяти стены класса – открывал теперь глубину и кружевную сложность нового изменчивого пространства, – все эти закоулки и ярусы, созданные переплетением ветвей, ажурные галереи, уводящие в чащу тропинки, повисшие над бездной поляны и мосты, едва угадывающиеся в туманной дали немыслимые деревья-гиганты, и уносящаяся в никуда путаница корней, – пространство, обещавшее открыть ему это желанное соответствие, это потаенное от посторонних глаз место, где его нагота перестанет быть позором и проклятьем, – и, стало быть, оставалось только войти в этот трепещущий лес, в этот мерцающий, вспыхивающий, горящий праздник – вот так, раздвинув руками ветви и ступив на тропу, которая одна могла увести прочь от уже настигающего, готового затопить тебя тысячеголосого смеха, больше похожего на шум морского прибоя.
Впрочем, этот смех уже не казался ему ни ужасным, ни внушающим страха. Разве что, на редкость бессмысленным показался он Давиду, – таким каким смеялся когда-то жирный Рувимчик, сын торговки-эфиопки с соседней улицы, вечно пахнувший шоколадом или мятной карамелью, за что его звали Батончик Дерьма, и чей смех Давид слышал напоследок, прежде чем в наступившей тишине сомкнулись за его спиной стеклянные ветви и чей-то голос, наполнивший собой все видимое пространство, сказал, не заботясь о том, слышит ли кто-нибудь его или нет, – "Приду и в святости Моей освятишься".
Именно так и было сказано, и это лишало тебя возможности сомневаться, тем более что сразу после сказанного на мир опустилась долгожданная тишина и черная фигура в шляпе, мелькнувшая напоследок среди деревьев, могла, наконец, вернуться туда, откуда она и начала когда-то свой путь, требовалось только поскорее скрыться среди всех этих "вавов", "йодов" и "зайнов", чтобы самому стать одним из них, – вот так, раскинув руки-ветви, протянув их навстречу уже меркнувшему небу, пустив корни в лежащую под ногами бездну и повторяя про себя, что награда – это всего лишь возвращение, а обретенное всегда в состоянии обрести только самого себя.
Наверное, именно поэтому таким чужим выглядело теперь собственное отражение, смотрящее на тебя из туманной дали меркнувшего небесного зеркала, – хотя следовало признать, что оно имело несомненное сходство с физиономией жирного Рувимчика, – каким его можно было видеть в телевизионной религиозной программе, которую он вел каждый четверг: те же кокетливо пружинящие, безукоризненно завитые пейсы, и заплывшие хитрые глаза, да еще это непередаваемое выражение лица, – словно он был со Всевышним в самых близких отношениях, которые требовали теперь от всех окружающих уважения и понимания. При этом, разумеется, он тоже ничего не желал знать о твоей жаждущей благословения нагой плоти, которая, быть может, была только преддверием другой, последней и ослепительной наготы, стремящейся прочь от оплетающих ее мертвых ветвей и корней. Это значило, конечно, что прежде чем выбрать направление бегства, следовало без промедления узнать, кто же ты все-таки такой, забывший свое имя и не помнящий своего лица?.. Кто ты, смотрящий сквозь мертвую сеть ветвей, как взбирается на небосвод мерцающий алмазами Скорпион, – уже готовый выкрикнуть в окружающую тьму давно готовый вопрос, который следовало задать, пока Рувимчик на экране телевизора еще не успел взять в руки микрофон,
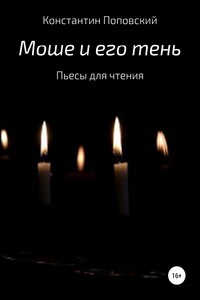
"Пьесы Константина Поповского – явление весьма своеобразное. Мир, населенный библейскими, мифологическими, переосмысленными литературными персонажами, окруженными вымышленными автором фигурами, существует по законам сна – всё знакомо и в то же время – неузнаваемо… Парадоксальное развитие действия и мысли заставляют читателя напряженно вдумываться в смысл происходящего, и автор, как Вергилий, ведет его по этому загадочному миру."Яков Гордин.

"Современная отечественная драматургия предстает особой формой «новой искренности», говорением-внутри-себя-и-только-о-себе; любая метафора оборачивается здесь внутрь, но не вовне субъекта. При всех удачах этого направления, оно очень ограничено. Редчайшее исключение на этом фоне – пьесы Константина Поповского, насыщенные интеллектуальной рефлексией, отсылающие к культурной памяти, построенные на парадоксе и притче, связанные с центральными архетипами мирового наследия". Данила Давыдов, литературовед, редактор, литературный критик.

Кажущаяся ненужность приведенных ниже комментариев – не обманывает. Взятые из неопубликованного романа "Мозес", они, конечно, ничего не комментируют и не проясняют. И, тем не менее, эти комментарии имеют, кажется, одно неоспоримое достоинство. Не занимаясь филологическим, историческим и прочими анализами, они указывают на пространство, лежащее за пространством приведенных здесь текстов, – позволяют расслышать мелодию, которая дает себя знать уже после того, как закрылся занавес и зрители разошлись по домам.

Патерик – не совсем обычный жанр, который является частью великой христианской литературы. Это небольшие истории, повествующие о житии и духовных подвигах монахов. И они всегда серьезны. Такова традиция. Но есть и другая – это традиция смеха и веселья. Она не критикует, но пытается понять, не оскорбляет, но радует и веселит. Но главное – не это. Эта книга о том, что человек часто принимает за истину то, что истиной не является. И ещё она напоминает нам о том, что истина приходит к тебе в первозданной тишине, которая все еще помнит, как Всемогущий благословил день шестой.

"По согласному мнению и новых и древних теологов Бога нельзя принудить. Например, Его нельзя принудить услышать наши жалобы и мольбы, тем более, ответить на них…Но разве сущность населяющих Аид, Шеол или Кум теней не суть только плач, только жалоба, только похожая на порыв осеннего ветра мольба? Чем же еще заняты они, эти тени, как ни тем, чтобы принудить Бога услышать их и им ответить? Конечно, они не хуже нас знают, что Бога принудить нельзя. Но не вся ли Вечность у них в запасе?"Константин Поповский "Фрагменты и мелодии".

Автор не причисляет себя ни к какой религии, поэтому он легко дает своим героям право голоса, чем они, без зазрения совести и пользуются, оставаясь, при этом, по-прежнему католиками, иудеями или православными, но в глубине души всегда готовыми оставить конфессиональные различия ради Истины. "Фантастическое впечатление от Гамлета Константина Поповского, когда ждешь, как это обернется пародией или фарсом, потому что не может же современный русский пятистопник продлить и выдержать английский времен Елизаветы, времен "Глобуса", авторства Шекспира, но не происходит ни фарса, ни пародии, происходит непредвиденное, потому что русская речь, раздвоившись как язык мудрой змеи, касаясь того и этого берегов, не только никуда не проваливается, но, держась лишь на собственном порыве, образует ещё одну самостоятельную трагедию на тему принца-виттенбергского студента, быть или не быть и флейты-позвоночника, растворяясь в изменяющем сознании читателя до трепетного восторга в финале…" Андрей Тавров.