Мозес - [10]
Вспышка слизнула комнату, и вслед за тем все вернулось на свои места. Феликс, кажется, поднял руку и попросил внимания, намереваясь сказать тост, и все это было почти накануне, кажется за неделю или чуть больше до того, как мы встретились с тобою глазами на дальнем больничном дворике, возле дверей морга, и ты кивнула мне, ведь, слава Богу, мы были знакомы уже не первый год, а теперь встретились возле самых дверей, – четыре стертые ступени под проржавевшим козырьком, к тому же мы не знали, что это служебный вход и, войдя, сразу же наткнулись на каталку с лежащим на ней под прозрачным полиэтиленом телом с повернутой в нашу сторону головой и приоткрытым ртом. Ты не вцепилась мне в рукав и не остановилась, хотя переход от солнечного осеннего дня, который мы оставили за спиной, к липкому полумраку, густо напоенному запахом смерти, был достаточно резок даже для меня. Я помню, как ты решительно толкнула следующую дверь, и я вошел вслед за тобой в это царство смерти, до краев наполненное осенним солнцем, теплом и цветами. Сидящий за столом санитар читал книгу, он посмотрел на нас безо всякого интереса и вновь опустил голову. Кто-то, уж не помню – кто из сидящих поднялся тебе навстречу. Кивнув Феликсу и Анне, я сел на свободное место. На коленях у Анны лежал букет белых гвоздик. Простой гроб был закрыт и, кажется, уже заколочен, потому что сбившая Маэстро машина протащила его за собой несколько метров, выбросив затем под колеса идущего навстречу грузовика. Через распахнутые прямо во двор большие стеклянные двери ярко било осеннее солнце, мы сидели молча (хотя, быть может, на этот раз мне изменяет память), пока, наконец, вошедший распорядитель не предложил всем присутствующим начинать собираться. Потом во двор начал медленно въезжать автобус и тень от него легла на желтый кафельный пол, на гроб и на лица провожающих. Было утро, должно быть, где-то около десяти.
6. Филипп Какавека. Фрагмент 14
«МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ. Философия, пожалуй, самая чистоплотная особа на свете. Помилуйте! Она даже не подозревает, что в мире существуют такие вещи, как свалки нечистот и отхожие места. Велика ли важность – отхожее место? Но откуда нам это знать a priori? Задача философии, в конце концов, выяснить все, в том числе, разумеется, смысл и значение отхожих мест. И вот вместо этого она воротит от них свой нос и закрывает глаза, делая вид, что их просто не существует. Скажут, что философия только послушно следует туда, куда ведет ее Истина. И верно! Чистоплотная Истина, целомудренная Истина, окрашенная в розовое и голубое, – разве не она требует от нас чистоты в качестве необходимого условия своего собственного познания? Однако приглядимся: эти розовые тона – не чахоточный ли румянец? А эти манящие голубые блики – не синюшные ли это пятна, которые не скрыть никакими притираниями? Истина больна, – всякая Истина больна – той загадочной и странной болезнью, которой боги наградили когда-то фригийского царя: все, до чего бы он ни дотронулся, немедленно превращалось, как мы помним, в золото. Не то же ли и с Истиной? К чему бы она ни притронулась, чего бы ни коснулась, все тотчас же обращается в ликующие песнопения и цветущие сады. Здесь кроется разгадка и философской чистоплотности: философия вовсе не отворачивается от отхожих мест, – она превращает их в сады и розарии, точно следуя тому, чего требует от нее Истина. Это, конечно, болезнь, метафизическая болезнь, ничуть не менее опасная, чем болезнь Мидаса. И, подобно тому, как обращенный в золото хлеб не спасает от голода, так и преображенный в розарий мир ничуть не в состоянии избавиться от грязи и нечистот, которые по-прежнему не только пугают, но и манят нас, хотя бы уже тем, что они существуют наперекор Истине и помимо нее. Впрочем, грязь и нечистоты остаются на наше полное усмотрение. Потому-то вольно или невольно мы всегда вынуждены выбирать между двумя или даже тремя «или», не сомневаясь при этом, что, сколько ни выбирай, а все останется на своих местах: и Истина, ничего не желающая знать о грязи, и грязь, не желающая обращаться в цветущий жасмин, и, наконец, наша загадочная неспособность не только выбирать между реальностью и иллюзией, но, зачастую, просто отличать одно от другого. Похоже, что последнее тоже есть своего рода болезнь, метафизическая болезнь».
7. Тетрадь Маэстро
Но, даже допуская, что наша возможная встреча перед дверью морга была в высшей степени символической, – словно кто-то развернул перед нами спрессованное в одно мгновенье будущее, – даже допуская это, трудно было отделаться от сомнений, что в действительности все эти символы и знаки были лишь игрой запоздалого воображения, легко вычисленной фантазией, вытекающей из вечной человеческой потребности в устойчивости и порядке. Ведь, в конце концов, символическое значение того или иного факта, как правило, распознается лишь по прошествии времени, властвуя исключительно над прошлым, благодаря чему утрачивает свой первоначальный смысл, который состоит только в том, чтобы предостерегать, защищать и оберегать нас от вторжения в нашу жизнь таинственных и непонятных сил, – ибо кому, в противном случае, нужны эти запоздалые предостережения и невнятные знаки, легко поддающиеся разгадке задним числом и с неизбежностью исполняющиеся прежде, чем ты успеваешь понять смысл происходящего?
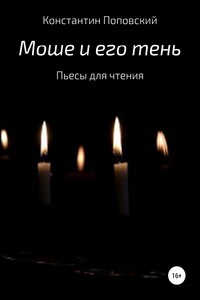
"Пьесы Константина Поповского – явление весьма своеобразное. Мир, населенный библейскими, мифологическими, переосмысленными литературными персонажами, окруженными вымышленными автором фигурами, существует по законам сна – всё знакомо и в то же время – неузнаваемо… Парадоксальное развитие действия и мысли заставляют читателя напряженно вдумываться в смысл происходящего, и автор, как Вергилий, ведет его по этому загадочному миру."Яков Гордин.

"Современная отечественная драматургия предстает особой формой «новой искренности», говорением-внутри-себя-и-только-о-себе; любая метафора оборачивается здесь внутрь, но не вовне субъекта. При всех удачах этого направления, оно очень ограничено. Редчайшее исключение на этом фоне – пьесы Константина Поповского, насыщенные интеллектуальной рефлексией, отсылающие к культурной памяти, построенные на парадоксе и притче, связанные с центральными архетипами мирового наследия". Данила Давыдов, литературовед, редактор, литературный критик.

Кажущаяся ненужность приведенных ниже комментариев – не обманывает. Взятые из неопубликованного романа "Мозес", они, конечно, ничего не комментируют и не проясняют. И, тем не менее, эти комментарии имеют, кажется, одно неоспоримое достоинство. Не занимаясь филологическим, историческим и прочими анализами, они указывают на пространство, лежащее за пространством приведенных здесь текстов, – позволяют расслышать мелодию, которая дает себя знать уже после того, как закрылся занавес и зрители разошлись по домам.

Патерик – не совсем обычный жанр, который является частью великой христианской литературы. Это небольшие истории, повествующие о житии и духовных подвигах монахов. И они всегда серьезны. Такова традиция. Но есть и другая – это традиция смеха и веселья. Она не критикует, но пытается понять, не оскорбляет, но радует и веселит. Но главное – не это. Эта книга о том, что человек часто принимает за истину то, что истиной не является. И ещё она напоминает нам о том, что истина приходит к тебе в первозданной тишине, которая все еще помнит, как Всемогущий благословил день шестой.

Автор не причисляет себя ни к какой религии, поэтому он легко дает своим героям право голоса, чем они, без зазрения совести и пользуются, оставаясь, при этом, по-прежнему католиками, иудеями или православными, но в глубине души всегда готовыми оставить конфессиональные различия ради Истины. "Фантастическое впечатление от Гамлета Константина Поповского, когда ждешь, как это обернется пародией или фарсом, потому что не может же современный русский пятистопник продлить и выдержать английский времен Елизаветы, времен "Глобуса", авторства Шекспира, но не происходит ни фарса, ни пародии, происходит непредвиденное, потому что русская речь, раздвоившись как язык мудрой змеи, касаясь того и этого берегов, не только никуда не проваливается, но, держась лишь на собственном порыве, образует ещё одну самостоятельную трагедию на тему принца-виттенбергского студента, быть или не быть и флейты-позвоночника, растворяясь в изменяющем сознании читателя до трепетного восторга в финале…" Андрей Тавров.

"По согласному мнению и новых и древних теологов Бога нельзя принудить. Например, Его нельзя принудить услышать наши жалобы и мольбы, тем более, ответить на них…Но разве сущность населяющих Аид, Шеол или Кум теней не суть только плач, только жалоба, только похожая на порыв осеннего ветра мольба? Чем же еще заняты они, эти тени, как ни тем, чтобы принудить Бога услышать их и им ответить? Конечно, они не хуже нас знают, что Бога принудить нельзя. Но не вся ли Вечность у них в запасе?"Константин Поповский "Фрагменты и мелодии".