Мотив меча, брошенного в озеро: Смерть Артура и смерть Батрадза - [6]
В дом одного богатого вдового крестьянина по имени Крунниук [Crunniuc] или Круннху [Cronnchu], т. е. «круглая собака», однажды зашла очень красивая молодая женщина и, не говоря ни слова, смело принялась за работу по хозяйству и на ферме; она была прекрасной хозяйкой, раздавала детям и прислуге еду и одежду в изобилии. И она осталась в доме Крунниука. Некоторое время спустя она забеременела. Срок ее родов приближался, когда состоялся большой сбор уладов, и каждый отправлялся туда, если только не имел такого серьезного препятствия, как жена Крунниука. И крестьянин приготовился идти туда один. Когда он уходил, жена посоветовала ему не говорить неосторожных слов. (В другой версии молодая женщина запрещает своему мужу говорить о ней на празднике; если он ее не послушается, она будет вынуждена его покинуть). Во время игрищ колесница короля победила в гонках, и Крунниук похвастался, что его жена бегает быстрее, чем королевские лошади. Рассердившись, король заставляет Маху [Macha] (так зовут молодую женщину) бежать наперегонки со своими лошадьми, несмотря на мольбы бедной женщины, чувствующей уже схватки, и ее просьбу об отсрочке. Безучастные к ее просьбам и проклятиям, суверен и зрители дают сигнал к началу. Маха побеждает, но рожает на финише двух близнецов. В момент родов она издает такой крик, что все мужчины, услышавшие его, были словно околдованы. На самом деле Маха была феей, дочерью Этранжа (Странного), сына Океана, и с этого дня воины были обречены претерпеть один раз в жизни в течение пяти дней и четырех ночей или пяти ночей и четырех дней родовые муки. Таким образом, когда Медб [Medb] напала на Ульстер, чтобы завладеть быком Кулея, все мужское население было в постели, выполняя свой девятидневный обет, кроме Кухулина [Cûchulainn], который был вынужден один оказывать сопротивление захватчику.
Эта необычная легенда такой, как она представлена здесь, т. е. в том виде, в каком она сохранилась в рукописях, содержит некоторые неясные моменты: с одной стороны, причины, заставляющие Маху давать эти советы при отъезде ее мужа на сбор, так и остаются для нас неизвестными; с другой стороны, хвастовство Крунниука — «Моя жена бегает быстрее» — выглядит абсолютно безосновательным; и только a posteriori, после победы молодой женщины оно предстает оправданным…, не будучи таковым, поскольку текст не содержит до сих пор никакого намека на волшебный характер персонажа. Однако нартовское сказание рассеивает этот туман, и для нас это сказание представляет тем больший интерес, что оно описывает само рождение Батрадза:
Хæмыц на охоте. Он преследует и убивает белого зайца, но когда он хочет схватить его, заяц оживает и уносится со всех ног. И так три раза кряду, до тех пор, пока, в конце концов, заяц не прыгает в море. Огорченный и пристыженный Хæмыц стоит на берегу, и в это время из моря появляется старец: «Этот заяц, — говорит он, — дочь самого Бога моря, Донбеттыра, а сам я его слуга. Возвращайся через месяц, и ты женишься на ней». Месяц спустя Хæмыц со своими нартовскими дружками действительно, возвращается и празднуется свадьба. «Моя дочь, — говорит Донбеттыр Хæмыцу, — может жить под горячим солнцем только под черепашьим панцирем. Она будет снимать его только ночью, перед сном». Хæмыц принимает это условие и уводит свою невесту, покрытую панцирем. Но ночью злокозненный Сырдон проникает в комнату Хæмыца, забирает панцирь и сжигает его. Проснувшись, рассерженная мелюзина объявляет о своем неизбежном отъезде и переносит — рассказчик не уточняет, каким образом — на спину своего мужа, в горб, зародыш который был в ее лоне38. Когда пришел срок, Сатана, сестра и невестка Хæмыца вскрывает гроб… и оттуда выходит Батрадз!
Из сопоставления этих двух текстов мы можем сделать заключение о том, что Маха, как и мать Батрадза, вероятно, обладала в первоначальной версии двойной внешностью при отсутствии двойственной природы: одновременно быстрое животное (заяц, лань и т. д.) и человеческое существо (или перевоплотившееся божество). Отсюда и ее советы об осторожности и неуместные речи ее супруга.
В другом варианте этого же рассказа жена Хæмыца днем пребывает в коже лягушки и сбрасывает ее только ночью. Однажды, когда Хæмыц отправляется на большую площадь на нартовский совет, он кладет свою жену в карман, не слушая ее предостережений. Сырдон, догадавшись, что нарт прячет свою жену в кармане, оскорбляет и его, и дочь Донбеттыра. Отныне она не может более продолжать жить с Хæмыцем, но т. к. она беременна, она вдувает ему между лопатками зародыш, который она носит; там появляется опухоль, из которой родится Батрадз39.
Сходство поразительное; перед нами один и тот же мифологический рассказ: божество, дочь или внучка морского бога, выходит замуж за смертного вследствие таинственного стечения обстоятельств. Она «прекрасная хозяйка» и отличается своей щедростью40 до того дня, когда она, беременная, становится жертвой ошибки или неосторожности своего мужа и вынуждена — после оскорбления, непосредственным образом связанного с ее качеством «мелюзины» — перенести на один или несколько мужских элементов свою беременность или муки, которые сопровождают разрешение от нее. Несомненно, в осетинском эпосе не говорится об общем проклятии всех нартов мужского пола; тем не менее, Ж. Дюмезиль совершенно справедливо связывает необычное рождение Батрадза с отрывком из Геродота, отрывком, подкрепленным другими различными свидетельствами у Геродота, IV, 67, Гиппократа, О воздухе, воде и местности, 22 или в Никомаховой этике, VП, 7. «В главе 105 своей первой Книги Геродот пишет, что скифы в их завоевательном шествии через Переднюю Азию захватили Аскалон, город в Сирии и ушли из него, не причинив вреда, кроме некоторых из них, которые, оставшись, разграбили храм небесной Афродиты»… И историк заключает: «Те из скифов, кто грабил храм в Аскалоне, и все их потомки были поражены богиней женской болезнью. Такова история, которой скифы объясняют эту болезнь. Впрочем, путешественники, приезжающие в Скифию, могут видеть состояние этих людей, которых скифы называют энареями»41. Какой бы ни была интерпретация (женоподобные вожди или колдуны, симулирующие женственность, месячные, беременность и т. д.), эта «женская болезнь», поразившая скифов-«базилевсов» в наказание за оскорбление богини, рожденной морем и связанной с половым влечением, имеет связь через осетинское сказание с таинственным девятидневным обетом воинов Ульстера; она дополняет своего рода «этнографической» деталью легенду о рождении Батрадза; она восстанавливает равновесие между ирландским рассказом и кавказской легендой; она составляет звено, позволяющее кругу замкнуться.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
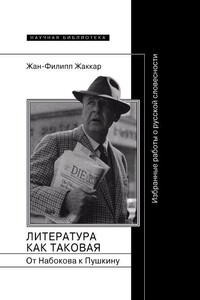
«Литературой как таковой» швейцарский славист Ж.-Ф. Жаккар называет ту, которая ведет увлекательную и тонкую игру с читателем, самой собой и иными литературными явлениями. Эта литература говорит прежде всего о себе. Авторефлексия и автономность художественного мира — та энергия сопротивления, благодаря которой русской литературе удалось сохранить «свободное слово» в самые разные эпохи отечественной истории. С этой точки зрения в книге рассматриваются произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, В. В. Набокова, Д. И. Хармса, Н. Р. Эрдмана, М. А. Булгакова, А. А. Ахматовой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.