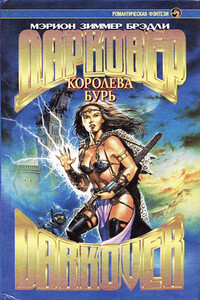Московский художественный театр - [4]
На ряду съ Астровымъ Соня является однимъ изъ лучшихъ созданій московскаго художественнаго театра. Въ пьесѣ г. Чехова она нѣсколько безлична и неопредѣленна, безплотна и монотонна, какъ сѣрыя фигуры на картинахъ символистовъ, у которыхъ вся жизнь сосредоточена въ глазахъ, а тѣло скрыто въ безформенныхъ складкахъ покрывала. Не то на сценѣ, гдѣ мы видимъ удивительно симпатичную дѣвушку, живую и любящую жизнь, кроткую и терпѣливую, но стойкую и непоколебимую въ своихъ стремленіяхъ, влюбленную въ Астрова, который непреодолимо влечетъ ее къ себѣ своимъ жизнерадостнымъ темпераментомъ, своей здоровой, неизломанной натурой. Сцена, когда Соня сама признается ему въ любви и встрѣчаетъ безмолвный, но тѣмъ болѣе краснорѣчивый отказъ, трогаетъ до глубины души изяществомъ и благородствомъ этой женской души, такой возвышенной и чистой въ своемъ порывѣ дѣвственнаго, всецѣло охватившаго ее чувства. Соня напоминаетъ Пушкинскую Татьяну, только не Татъяну-полуребенка, влюбленную въ Онѣгина, а Татьяну, прозрѣвшую всю суетность жизни, ушедшую въ себя, съ покорнымъ преклоненіемъ предъ судьбой, готовую всю себя отдать на жертву за другихъ и для другихъ.
Еще больше, чѣмъ для "Дяди Вани", сдѣлалъ московскій театръ для "Трехъ сестеръ" г. Чехова. Не только удивительно передано мертвящее настроеніе безъисходной тоски, которымъ проникнута вся пьеса, но въ исполненіи исчезла вся дѣланность пьесы. Авторомъ, какъ и въ "Дядѣ Ванѣ", взятъ случай не дѣйствительный, что въ чтеніи производитъ рѣзкій и непріятный диссонансъ. Три сестры на протяженіи четырехъ актовъ все ноютъ, ноютъ, ноютъ и вздыхаютъ по жизни въ Москвѣ, гдѣ онѣ жили нѣкогда и которая теперь въ дали временъ имъ рисуется, какъ недостижимый идеалъ. Между тѣмъ мы не видимъ ни повода для такого нытья, ни реальной причины, которая мѣшала бы имъ осуществить свою мечту. Сестры обезпечены, прекрасно воспитаны и образованы, знаютъ три иностранныхъ языка,– онѣ милы, всѣмъ нравятся, привлекая людей своей добротой и сердечностью,– казалось бы, почему имъ не жить? Почему не бросить свой провинціальный городъ, если онъ имъ такъ надоѣлъ, и не перебраться въ Москву, гдѣ, конечно, онѣ съ успѣхомъ могли бы проявить всѣ свои несомнѣнные таланты. Тысячи дѣвушекъ, гораздо хуже обставленныхъ, съ меньшимъ багажемъ знаній и душевныхъ достоинствъ, ежегодно покидаютъ провинцію, наполняютъ всякія учебныя заведенія, работаютъ въ литературѣ и печати и такъ или иначе двигаютъ жизнь. Но три сестры, по авторскому хотѣнію, только ноютъ, измышляютъ несущественныя преграды, вродѣ женитьбы брата, который готовился къ каѳедрѣ, а вмѣсто того застрялъ въ земской управѣ, и не двигаются съ мѣста. Вся жизнь ихъ уходитъ въ ничтожную работу, которую они не любятъ, въ странныя, надоѣвшія имъ знакомства съ офицерами мѣстной артиллерійской бригады, въ слабыя и смѣшныя попытки борьбы съ пошлой женой брата, которая весь домъ и ихъ въ томъ числѣ прибираетъ къ рукамъ, и въ безконечное, надоѣдливое нытье. Такъ въ жизни не бываетъ, вотъ что назойливо испытываетъ читатель, и совершенно иное испытываетъ онъ, когда видитъ пьесу въ исполненіи московскаго художественнаго театра.
Не говоря уже о превосходной внѣшней постановкѣ, дающей полную иллюзію дѣйствительности, мы должны опять отмѣтить рѣдкую творческую способность г. Станиславскаго и его товарищей создавать типы изъ схематическихъ набросковъ автора. Въ этой пьесѣ они изъ каждаго лица дѣлаютъ типичную фигуру, которая навсегда врѣзывается вамъ въ память. Предъ нами словно цѣлая галлерея типовъ изъ офицерской среды, начиная съ мечтательнаго сорокалѣтняго подполковника и до пьяненькаго, все перезабывшаго старичка военнаго врача. Мрачный Соленый, считающій себя Лермонтовымъ, и рядомъ съ нимъ безкровный баронъ, все пропвѣдующій необходимость работать, работать, работать, – это въ своемъ родѣ идейные представители офицерской среды, которую дополняютъ легкомысленные Федотикъ и Родэ, веселые, добрые ребята, одинъ съ своей фотографіей, другой съ гитарой, всегда готовые любезничать съ барышнями, шумѣть и веселиться по поводу и безъ повода. Въ этой средѣ вполнѣ понятенъ интересъ, какой возбуждаетъ подполковникъ Вершининъ своими мечтами о будущемъ и жалобами на настоящее свое семейное положеніе. Понятно и увлеченіе имъ, какое охватываетъ одну изъ сестеръ, замужнюю, мужъ которой учитель латинскаго языка, добродушное, всегда и всѣмъ довольное и безконечно глупое существо, если можетъ что внушать къ себѣ, такъ развѣ глубочайшее taedium vitae,– своимъ самодовольствомъ, тупостью и той безсознательной, инстинктивной пошлостью, которая заставляетъ его, напр., сбрить усы только потому, что такъ сдѣлалъ директоръ, не одобряющій усовъ. Жизнь среди такого общества превращается въ безконечную, "нудную" маяту, засасывающую и медленно, но неуклонно притупляющую и принижающую человѣка. Зритель, подавленный безграничною тоскою этой безотрадной жизни, забываетъ всю не реальность трехъ сестеръ, которыя такъ легко и просто могли бы рѣшить вопросъ своей личной судьбы, и видитъ нѣчто гораздо большее: предъ нимъ постепенно развертывается удручающая картина мѣщанскаго болота. Дѣло уже не въ судьбѣ трехъ злополучныхъ сестеръ,– это прогнившая до нутра
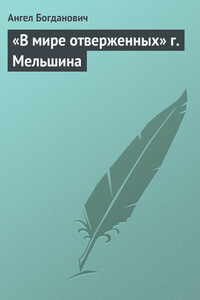
«Больше тридцати лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ появленіе «Записокъ изъ Мертваго дома» вызвало небывалую сенсацію въ литературѣ и среди читателей. Это было своего рода откровеніе, новый міръ, казалось, раскрылся предъ изумленной интеллигенціей, міръ, совсѣмъ особенный, странный въ своей таинственности, полный ужаса, но не лишенный своеобразной обаятельности…»Произведение дается в дореформенном алфавите.
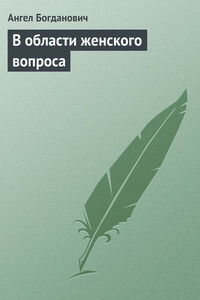
«Женскій вопросъ давно уже утратилъ ту остроту, съ которой онъ трактовался нѣкогда обѣими заинтересованными сторонами, но что онъ далеко не сошелъ со сцены, показываетъ художественная литература. Въ будничномъ строѣ жизни, когда часъ за часомъ уноситъ частицу бытія незамѣтно, но неумолимо и безвозвратно, мы какъ-то не видимъ за примелькавшимися явленіями, сколько въ нихъ таится страданія, которое поглощаетъ все лучшее, свѣтлое, жизнерадостное въ жизни цѣлой половины человѣческаго рода, и только художники отъ времени до времени вскрываютъ намъ тотъ или иной уголокъ женской души, чтобы показать, что не все здѣсь обстоитъ благополучно, что многое, сдѣланное и достигнутое въ этой области, далеко еще не рѣшаетъ вопроса, и женская личность еще не стоитъ на той высотѣ, которой она въ правѣ себѣ требовать, чтобы чувствовать себя не только женщиной, но и человѣческой личностью, прежде всего.
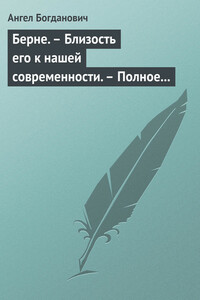
«Среди европейскихъ писателей трудно найти другого, который былъ бы такъ близокъ русской современной литературѣ, какъ Людвигъ Берне. Не смотря на шестьдесятъ лѣтъ, отдѣляющихъ насъ отъ того времени, когда Берне писалъ свои жгучія статьи противъ Менцеля и цѣлой плеяды нѣмецкихъ мракобѣсовъ, его произведенія сохраняютъ для насъ свѣжесть современности и жизненность, какъ будто они написаны только вчера. Его яркій талантъ и страстность, проникающая все имъ написанное…»Произведение дается в дореформенном алфавите.
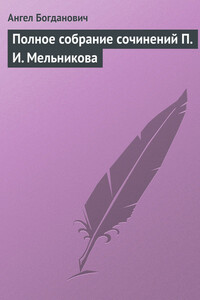
«Среди бытописателей русской жизни одну изъ оригинальнѣйшихъ фигуръ представляетъ Мельниковъ, псевдонимъ Печерскій, извѣстность котораго въ большой публикѣ распространили его послѣднія два крупныхъ произведенія "Въ лѣсахъ" и "На горахъ". Въ 70-хъ годахъ, когда эти бытовые романы печатались въ "Рус. Вѣстникѣ", имя Мельникова ставили на ряду съ Тургеневымъ и Гончаровымъ, а литературная партія, къ которой принадлежали Катковъ и Леонтьевъ, превозносила его превыше пирамидъ…»Произведение дается в дореформенном алфавите.

«Прошло почти два месяца, как начала… действовать, хотел я сказать, государственная дума, но жизнь, текущая ужасная жизнь немедленно остановила меня: „не действовать, а – говорить“.И мне стало стыдно за себя и грустно за думу…».

Последние произведения г-на Чехова: «Человек в футляре», «Крыжовник», «Любовь». – Пессимизм автора. – Безысходно-мрачное настроение рассказов. – Субъективизм, преобладающий в них.
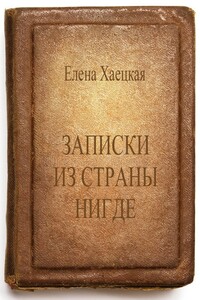
Елена Хаецкая (автор) публиковала эти записки с июня 2016 по (март) 2019 на сайте журнала "ПитерBOOK". О фэнтэзи, истории, жизни...
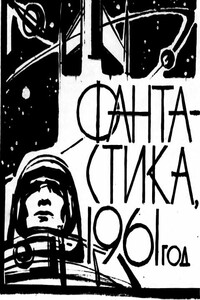
Обзор советской научно-фантастической литературы за 1961 год. Опубликовано: журнал «Техника — молодежи». — 1961. — № 12. — С. 14–16.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
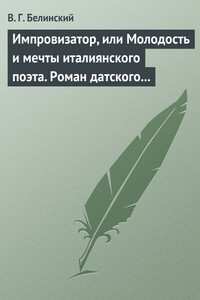
Рецензия – первый и единственный отклик Белинского на творчество Г.-Х. Андерсена. Роман «Импровизатор» (1835) был первым произведением Андерсена, переведенным на русский язык. Перевод был осуществлен по инициативе Я. К. Грота его сестрой Р. К. Грот и первоначально публиковался в журнале «Современник» за 1844 г. Как видно из рецензии, Андерсен-сказочник Белинскому еще не был известен; расцвет этого жанра в творчестве писателя падает на конец 1830 – начало 1840-х гг. Что касается романа «Импровизатор», то он не выходил за рамки традиционно-романтического произведения с довольно бесцветным героем в центре, с характерными натяжками в ведении сюжета.

Настоящая заметка была ответом на рецензию Ф. Булгарина «Петр Басманов. Трагедия в пяти действиях. Соч. барона Розена…» («Северная пчела», 1835, № 251, 252, подпись: Кси). Булгарин обвинил молодых авторов «Телескопа» и «Молвы», прежде всего Белинского, в отсутствии патриотизма, в ренегатстве. На защиту Белинского выступил позднее Надеждин в статье «Европеизм и народность, в отношении к русской словесности».