Московская мозаика - [4]
После возобновления работ Конратович остался один - Чоглокова уже не было в живых.
Архивы подсказывают, чем занимался Конратович эти годы: работал в Петербурге, строил Александро-Невский монастырь - Лавру. Петр имел возможность удостовериться в знаниях польского мастера. Поэтому, когда в 1722 году возобновляется стройка Арсенала, новый договор с Конратовичем предусматривает в пять раз увеличенное жалованье. Да и именовать его в документах начинают архитектором. Но вот любопытная деталь. Уже законченное вчерне и оштукатуренное здание Арсенала Конратович предлагает расписать колоннами, перевитыми виноградом. Такого приема и мотива не знали ни Польша, ни Саксония. Вообще он чужд стилю барокко, влияние которого заметно сказалось на архитектуре Арсенала, зато этот прием широко применялся в гражданских зданиях на Руси XVII века. В предложении Конратовича могли сказать свое слово впечатления от русской архитектуры, но могло ожить и воспоминание о замыслах Чоглокова, который, как живописец, особенно охотно обратился бы к приему росписи.
Предположения, пока одни предположения… А если взглянуть на факты с другой стороны? В тех же делах Оружейной палаты указывается, что почти одновременно с Арсеналом Чоглокову было поручено наблюдение и за строительством Математических школ. Математические школы - да ведь это ни много ни мало прославленная Сухарева башня! Именно там было помещено задуманное Петром первое учебное заведение для моряков, навигаторов, кораблестроителей. Конечно, далековато от моря, но ведь и Воронеж, где вырос первый русский флот, расположен не на морском берегу! Арсенал, Сухарева башня - не был ли Чоглоков попросту архитектором?
Только если задаться таким вопросом, пересмотром дел за какую-нибудь пару лет не обойтись. Придется вернуться назад, к тем далеким годам, когда начиналась юность Чоглокова, и проследить весь многотрудный путь древнерусского художника.
Оружейная палата сегодня - это огромное, все в замысловатом орнаменте здание, примкнувшее к Большому Кремлевскому дворцу. Музей известный, поражающий своим богатством. Но не говоря о том, что его нынешние помещения совсем-совсем молоды - им едва исполнилось сто лет, - само понятие Оружейной палаты в русской истории с ними в общем никак не связано.
Еще в XVI веке появилось при царском дворе звание оружничего - боярина, ведавшего царским оружием, а вместе с ним и палата, где это оружие хранилось. Но из кладовой палата очень скоро превратилась в мастерскую. Появились в ней оружейники, кузнецы, чеканщики, златописцы, ювелиры, золотых и серебряных дел мастера - все, кто имел хоть какое-нибудь отношение к изготовлению оружия. За ними потянулись художники, тогда еще только иконописцы - надо было расписывать знамена, стяги, походные палатки, - потом переписчики книг, миниатюристы, наконец, плотники, каменных дел мастера, строители.
А раз мастера были под рукой, их все чаще занимали работами для царского обихода. Чем пышнее становился царский быт, тем больше появлялось специальностей в палате. Просили о такой же помощи другие города и даже иноземные правители. Не было сколько-нибудь большой работы в стране, в которой бы палата не участвовала. Имела она свой немалый штат мастеров, имела и подробнейшие сведения о местных - «городовых» ремесленниках и иконописцах. В случае надобности ничего не стоило вызвать их из самых далеких уголков. Новгород и Устюг Великий, Александров и Кострома, Псков и Ярославль, Переславль-Залесский и Нижний Новгород были для нее одинаково доступны. За явку художников головой отвечали воеводы. Волей-неволей мастерам приходилось ехать. Хоть платила палата щедро, не каждому хотелось оставлять дом, семью, собственные заказы. «Терпела» на том, по тогдашнему выражению, местная работа, но взамен приходило признание. В Москве художник получал аттестацию по своим способностям и умению, и это принималось во внимание во всем государстве, куда бы ни попал мастер.
Трудно даже просто перечислить, что входило в обязанности иконописцев тех лет. Надо было расписывать сундуки, писать образа, украшать доски столов, покрывать сложнейшей росписью из цветов, фруктов, великолепных в своем цветовом богатстве орнаментов стены новых палат, отделывать шахматы, выполнять в огромных помещениях фрески. Приходилось даже подделывать ткани под заморские образцы, если их почему-нибудь не удавалось достать.
В Оружейной палате появляются и первые специалисты невиданного до того времени в Древней Руси мастерства - живописи. Один из них, Иван Детерс, еще в годы правления деда Петра I, едва не поплатился жизнью за свою профессию, когда во время пожара в Немецкой слободе спасавшие имущество погорельцев стрельцы увидели среди его личных вещей череп и скелет. Только счастливый случай помог уцелеть заподозренному в «колдовстве» художнику.
Оружейная палата становится первым и единственным учреждением, где готовились русские живописцы. И именно среди них, в числе «живописных учеников», удалось обнаружить самые ранние следы Чоглокова.
1681 год. В штате Оружейной палаты состоит живописный ученик Мишка Иванов, которому полагается жалованья - «корму» - 10 денег в день. Не так-то просто установить, что это и есть тот самый будущий Михаила Иванов сын Чоглоков, как его будут именовать документы двадцать лет спустя. И только после многочисленных сопоставлений, сравнений, экскурсов в последующие годы появилась возможность с уверенностью сказать: да, тот самый. Уже одно то, как называли художника - по отчеству ли вместо фамилии, или по имени и фамилии, или с отчеством и фамилией, говорило лучше всяких свидетельств об уровне его мастерства и соответственно уважении, каким он пользовался. Мишке Иванову еще предстояло стать Михайлой Ивановым, а потом Михайлой Чоглоковым - очередная ступень на профессиональной лестнице, чтобы получить, наконец, право на самое уважительное полное имя.
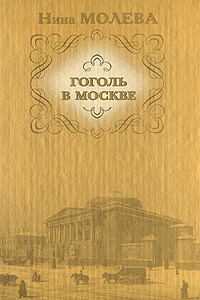
Гоголь дал зарок, что приедет в Москву только будучи знаменитым. Так и случилось. Эта странная, мистическая любовь писателя и города продолжалась до самой смерти Николая Васильевича. Но как мало мы знаем о Москве Гоголя, о людях, с которыми он здесь встречался, о местах, где любил прогуливаться... О том, как его боготворила московская публика, которая несла гроб с телом семь верст на своих плечах до университетской церкви, где его будут отпевать. И о единственной женщине, по-настоящему любившей Гоголя, о женщине, которая так и не смогла пережить смерть великого русского писателя.
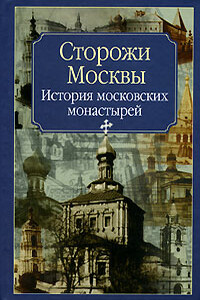
Сторожи – древнее название монастырей, что стояли на охране земель Руси. Сторожа – это не только средоточение веры, но и оплот средневекового образования, организатор торговли и ремесел.О двадцати четырех монастырях Москвы, одни из которых безвозвратно утеряны, а другие стоят и поныне – новая книга историка и искусствоведа, известного писателя Нины Молевой.
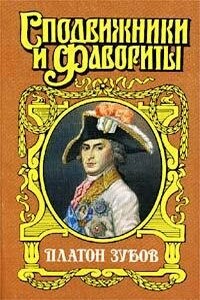
Новый роман известной писательницы-историка Нины Молевой рассказывает о жизни «последнего фаворита» императрицы Екатерины II П. А. Зубова (1767–1822).
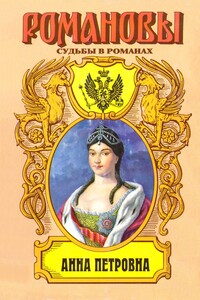
По мнению большинства историков, в недописанном завещании Петра I после слов «отдать всё...» должно было стоять имя его любимой дочери Анны. О жизни и судьбе цесаревны Анны Петровны (1708-1728), герцогини Голштинской, старшей дочери императора Петра I, рассказывает новый роман известной писательницы Нины Молевой.
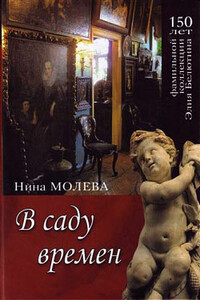
Эта книга необычна во всем. В ней совмещены научно-аргументированный каталог, биографии художников и живая история считающейся одной из лучших в Европе частных коллекций искусства XV–XVII веков, дополненной разделами Древнего Египта, Древнего Китая, Греции и Рима. В ткань повествования входят литературные портреты искусствоведов, реставраторов, художников, архитекторов, писателей, общавшихся с собранием на протяжении 150-летней истории.Заложенная в 1860-х годах художником Конторы императорских театров антрепренером И.Е.Гриневым, коллекция и по сей день пополняется его внуком – живописцем русского авангарда Элием Белютиным.
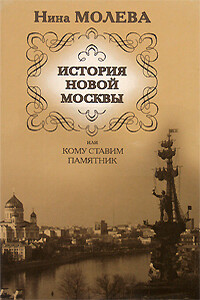
Петр I Зураба Церетели, скандальный памятник «Дети – жертвы пороков взрослых» Михаила Шемякина, «отдыхающий» Шаляпин… Москва меняется каждую минуту. Появляются новые памятники, захватывающие лучшие и ответственнейшие точки Москвы. Решение об их установке принимает Комиссия по монументальному искусству, членом которой является автор книги искусствовед и историк Нина Молева. Количество предложений, поступающих в Комиссию, таково, что Москва вполне могла бы рассчитывать ежегодно на установку 50 памятников.

Перед вами мемуары А. А. Краснопивцева, прошедшего после окончания Тимирязевки более чем 50-летний путь планово-экономической и кредитно-финансовой работы, начиная от колхоза до Минсельхоза, Госплана, Госкомцен и Минфина СССР. С 1981 по 1996 год он служил в ранге заместителя министра. Ознакомление с полувековым опытом работы автора на разных уровнях государственного управления полезно для молодых кадров плановиков, экономистов, финансистов, бухгалтеров, других специалистов аппарата управления, банковских работников и учёных, посвятивших себя укреплению и процветанию своих предприятий, отраслей и АПК России. В мемуарах отражена борьба автора за социальное равенство трудящихся промышленности и сельского хозяйства, за рост их социально-экономического благосостояния и могущества страны, за справедливое отношение к сельскому хозяйству, за развитие и укрепление его экономики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Серия очерков полковника Анатолия Леонидовича Носовича (1878–1968) — о вражеских вождях и о вражеской армии. Одно ценно — автор видел врагов вблизи, а некоторые стороны их жизни наблюдал изнутри, потому что некоторое время служил в их армии: в мае 1918 года по заданию Московской подпольной белогвардейской организации поступил на службу в Красную армию, в управление Северо-Кавказского военного округа. Как начальник штаба округа он непосредственно участвовал в разработке и проведении операций против белых войск и впоследствии уверял, что сделал все возможное, чтобы по одиночке посылать разрозненные красноармейские части против превосходящих сил противника.

На протяжении нескольких лет мы совместно с нашими западными союзниками управляли оккупированной Германией. Как это делалось и какой след оставило это управление в последующей истории двух стран освещается в этой работе.

Александр Иванович Гучков – один из самых крупных политических деятелей дореволюционной России, член Государственной Думы и Государственного совета, лидер влиятельной партии «октябристов», в 1917 году – военный и морской министр Временного правительства; с 1913 года он входил также в Военную масонскую ложу.Именно Гучков являлся автором и организатором дворцового переворота, целью которого было, используя связи с рядом военачальников (М. В. Алексеевым, Н. В. Рузским и др.), заставить Николая II отречься от престола.

В работе изучается до настоящего времени мало исследованная деятельность императора восточной части Римской империи Лициния (308–324 гг.) на начальном этапе исторического перелома: перехода от языческой государственности к христианской, от Античности к Средневековью. Рассмотрены религиозная политика Лициния и две войны с императором Константином I Великим.Книга может быть полезна специалистам, а также широкому кругу читателей.