Московляне - [114]
Один из них, бывалый, приметливый человек, обратившись однажды к тихой баушке с каким-то незначащим вопросом и внимательно вслушавшись в ее, как всегда, немногословный ответ, вдруг насторожился и сказал:
— Что-то, бабонька, говор-то у тебя больно высок. Не по-нашему аськаешь. Уж ты не с Москвы ли? — И, передразнивая московское певучее аканье, он произнес врастяжку, не без насмешливости: — С масковскава пасада, с авашнова ряда.
Баушку не смутила и не обидела его благодушная шутка. Но улыбка сошла с ее ввалившихся губ. Она посмотрела в глаза осетриннику ясным, пристальным взглядом и выговорила негромко:
— А на Москве не те же ль русские люди, что и у вас на Волхове?
Баушку ждала в последний год ее жизни еще другая встреча, более значительная.
VI
Это было летом, в самый сенокос.
Ее тогдашние хозяева уехали всей семьей на целую неделю в далекие луга, а ее оставили домовничать.
На то же время попросился к ним в избу еще и другой постоялец, совсем незнакомый. Пустили и его: баушка-то делалась дряхла и слаба, так мужская помощь могла ей понадобиться.
Он был молод, силен, подвижен, но нескладен: долговязый, узкий в плечах, со следами былой угреватости на линючем веселом лице.
Из его замысловатых речей, которые, по его же собственным словам, текли из его уст, аки речная быстрость, трудно было понять, кто он такой. Родился, если не врал, на Ильмень-озере; очень рано, видимо, ушел из отцовского дома и бежал в Новгород. Там он был взят еще мальчиком в дружину владычных ребят, которую держал архиепископ для переписки священных книг. Но оттуда малый ульнул и предался, как сам говорил, мирскому гонению, то есть попросту забродяжничал, перебиваясь, по его выражению, с пуговки на петельку.
Сейчас он шел будто бы с Белого озера, а куда — этого он и сам, должно быть, не знал.
Когда смерды, степенные, домовитые хозяева, с сокрушением и со смущением оглядывали неблагообразные отрепья, которые еле прикрывали его долгое тощее тело, он, ничуть не стыдясь своих лохмотьев, говорил с тонкой усмешкой:
— Не зрите на внешняя моя, но воззрите внутренняя моя.
Когда же обстоятельные смерды допытывались, чем же все-таки он кормится и как живет, он улыбался еще загадочнее и объяснял, что живет, как пчела, припадая к разным цветам и собирая медвяный сот.
Незнакомец, отказавшись ночевать в избе, спал на дворе, под навесом. Когда баушка вынесла ему туда старый овчинный тулуп, он гордо отмахнулся от него, сказав:
— Нам на перинах да под одеялами не спати: на брюхо лег, спиной укрылся.
Баушке, хлопотавшей по хозяйству, постоялец не досаждал разговорами. Вечерами он шатался по селу, шутил с девушками, задевал парней, а днем полеживал на берегу озера, что-то напевая, глядя на мелкие волны, на торчавший из воды тростник, на еловую горбину противоположного далекого берега, где на лысом боку едва обозначался погост, на чаек, неправдоподобно белых, будто сделанных из снега, на теплое летнее небо.
А в иные дни он вовсе не выходил из дому и дотемна просиживал в избе, под окошком, за чтением какой-то книги. Эта затрепанная и взбухшая от частого перелистывания книга, переплетенная в две обтянутые кожей доски, была единственным достоянием пришельца. Он, кажется, очень ею дорожил: каждый раз после чтения он старательно обертывал ее в ветхую тряпицу и прятал в свою пустую странническую суму.
Чтение так поглощало его, что он не слышал, как ходит по избе баушка, как погромыхивает ухватами и сковородниками, как кто-то на соседнем дворе набивенивает косу, как щебечут на лету ласточки.
Но когда зашла однажды к баушке какая-то плаксивая старушонка и стала, всхлипывая и вздыхая, многоречиво жаловаться на то, как сводит ей руки и ноги коркота и как перекатывается у нее что-то под мякитками, чтец вдруг освирепел и, не отрываясь от книги, цыкнул на гостью сквозь зубы:
— Довольно рюмить, бабка! Потешь попа: помри.
И снова умолк на много часов, до того погрузившись в чтение, что не заметил, как баушка поставила на стол горшок щей. Вернул его к жизни тихий баушкин голос, проговоривший не то с недоумением, не то с ласковым укором:
— Так уж ты, сынок, себя озаботил, что тебе и не до обеду. А живот-то с голоду давно уж, небось, подъежило.
Долговязый откинулся назад, затылком к стене, и, глядя в потолок, вымолвил:
— Слыхала ль, добрая старица, что про лебедей сказывают? Видом лебеди все одинаки, а норовом разны: лебедь-кликун кличет, а шипун только шепечет. Шипунам забота о своем животе да о своем достатке, а нам, кликунам…
Он оборвал речь, жалобно покивал головой и улыбнулся беспомощно-счастливой улыбкой.
Пока он хлебал простывшие щи, баушка безмолвно сидела в уголку, пришивая деревянные пуговки к косому вороту детской домотканой сорочки.
Отобедав, незнакомец опять взялся за книгу, но, прежде чем приступить к чтению, о чем-то задумался, подперев подбородок кулаком. Его рассеянный взгляд остановился на старухе.
— Добрая старица, — сказал он очень мягко, — дано ли очам твоим вникать в книжные словеса?
— Не учена, сынок, — отозвалась баушка.
— А знаешь ли цену писаным словесам?
— Где знать?
— Правду сказала: где знать цену неисчислимого! — торжественно произнес пришлец. — Волчица щенится волчатами. Орлица высиживает орлят. С дуба падают желуди, а из желудей вырастают новые дубы. И вы, матери человеческие, вынашиваете в утробах дочерей и сынов и в муках рождаете их на свет. Но всему, что живо, приходит в свою пору конец: и рождающим и рождаемым — и волчице и волчатам, и орлице и орлятам, и старому дубу и молодым дубам, и вам, матерям, и вашим чадам, и вашим внукам. Давно истлели в сырой земле и те, о ком в сей книге писано, — он показал пальцем на свое сокровище, — а написанному в ней не умирать! Писаное, книжное слово пребудет вовек! Чуешь ли, какую власть стяжали мы, тленные человеки, научившись порождать нетленное?

За свою любовь к Богу получил Великий князь Андрей Юрьевич имя Боголюбский. Летопись гласит, что был князь так же милостив и добр, подавал нищим и больным. В то же время Андрея Боголюбского ценили как мужественного и смелого воина, трезвого и хитрого политика. При нём Киев перестал быть столицей Русского государства, новым политическим центром стал Владимир.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Выстрел в Вене» — остросюжетный роман о невероятной истории спасения практически святого человека во время Второй мировой войны, за которую приходится платить по счетам его сыну уже в XXI веке. Внук советского офицера ищет в Вене встречи со знаменитым музыкантом из Аргентины. Но почему на ту же встречу стремится успеть старый немецкий антифашист? О цене свободы писали многие. А есть ли цена у святости? В серии «Твёрдый переплёт» издаются книги номинантов (участников) литературного конкурса имени Ф.М.
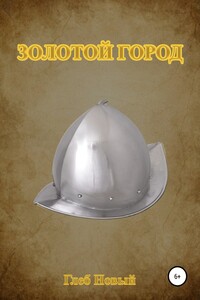
Книга повествует об истории полка конкистадоров, нашедших легендарный золотой город (Эльдорадо), что их и погубило.

“Книга увеселений” написана Забарой в 12 веке. Автор, врач и сочинитель, рассказывает о своем путешествии по Испании с неким Эйнаном, оказавшимся дьяволом. Юмор – несомненное достоинство произведения. Перевод с иврита: Дан Берг.

Первый дозор – зарисовка о службе в погранвойсках, за год до развала СССР, глазами новенького сержанта, прибывшего на заставу, граничащую с Афганистаном. Его первый дозор, первое нарушение, первая перестрелка.

Легкое переплетение популярных жанров современной литературы, способное удовлетворить самого требовательного читателя.