Море - [19]
Для Анны, в ее болезни, хуже всего были ночи. Этого следовало ожидать. Много было такого, чего следовало ожидать, теперь, когда настало неожиданное, бесповоротное. Ночью то, что днем было ошеломляющей несуразицей — со мной не могло такое случиться! — сменялось неподвижным, тупым изумлением. Она лежала рядом без сна, и я почти физически чувствовал, как страх крутится у нее внутри, как динамо. Или вдруг громко расхохочется во тьме, заново изумившись положению, в которое так безжалостно, так безобразно поставлена. Но чаще лежала тихо, затаясь, свернувшись калачиком, как заблудившийся полярный исследователь в палатке — уже засыпает, уже замерзает, и уже ему безразлично, погибнет он или его спасут. Раньше все, что с ней случалось, было временно, одолимо. Горести исцелялись, пусть просто временем, радости затвердевали привычкой, тело само справлялось с недомоганиями. А тут — абсолютный, единственный, неотвратимый конец, а такого она не могла вместить, осилить. Были бы хоть боли, она говорила, все же показатель какой-то, понятно, — накрыло и никуда не денешься. Но болей не было, пока не было; только, она объясняла, как-то вечно мотает, мутит, скребет изнутри, будто одураченное, бедное тело отчаянно строит заслоны против захватчика, а тот уж пробрался вовнутрь тайным ходом, черными клешнями похрустывает.
В те бесконечные октябрьские ночи, лежа рядом двумя поверженными памятниками самим себе, мы убегали от нестерпимого настоящего в единственно возможное время — в прошедшее, даже в давно прошедшее. Спасались в наши первые совместные дни, вспоминали наперебой, плутали по общему прошлому, поддерживали друг друга, как двое старцев бродят под руку по укреплениям города, где жили когда-то, давным-давно.
Особенно вспоминали то лондонское дымное лето, когда встретились и поженились. Я сразу засек Анну в гостях, в чьей-то квартире, в удушливо жаркий вечер — все окна настежь, воздух сизый от выхлопных газов, и гудочки автобусов, как туманные горны, чужды болтовне, тесноте темнеющих комнат. Ее размер — вот на что я сразу клюнул. Не то чтоб она была уж такая громадная, но спроектирована в ином масштабе, чем все мои прежние знакомые женщины. Крупные плечи, крупные руки, ноги, великолепная голова и эта грива темных, густых волос. Она стояла между мной и окном, в легком платье, в босоножках, говорила с другой женщиной так, как ей было свойственно, сосредоточенно и рассеянно сразу, в задумчивости навивая на палец темную прядь, и сначала мой глаз как-то все не мог утвердиться в фокусе, все казалось, что Анна, такая большая, стоит гораздо ближе ко мне, чем та, помельче, ее собеседница.
Ох, эти вечеринки, сколько их было в то время. Как начну вспоминать, всегда вижу: вот мы явились, секунду мешкаем на пороге, моя рука у нее пониже спины, под пальцами этот разлог, прохладный сквозь пупырчатость шелка, ее дикий запах в моих ноздрях, жар волос у меня на щеке. Роскошно, надо думать, мы выглядели, являясь, — выше всех, глядя поверх голов, будто на что-то прекрасное, дальнее, что только нам одним благоволило открыться.
Она тогда собиралась стать фотографом, щелкала эти свои утра с настроением — сплошь сажа, черненое серебро — в самых мрачных углах города. Хотела работать, что-то делать, кем-то быть. К ней взывал Ист-Энд, Брик-лейн, Спитафилд, милые места. Я никогда это не принимал всерьез. Зря, наверно. Жили они с отцом, снимали квартиру — в коричневом особняке, на Слоун-сквер, правда, но в сонной заводи, на темных задворках. Квартира громадная, ряд просторных высоких комнат, большие подъемные окна гордо отводили остекленелый взгляд от копошащихся внизу человечков. Папочка, старый Чарли Вайсс — «можешь не волноваться, фамилия не еврейская» — сразу ко мне расположился. Я был большой, молодой, нелепый, мое присутствие в этих раззолоченных комнатах его развлекало. Веселенький такой господин, крошечные ручки, ножки. Меня ошарашил его гардероб: несчетные костюмы с Сэвил-роу, рубашки от Шарве, кремового, бутылочного, лазурного шелка, десятки пар на заказ сшитой миниатюрной обувки. Голова, которую он через день таскал к Трамперу брить — волосы, он объяснял, это шерсть, ни один порядочный человек ее на себе не потерпит, — была гладкая, как яйцо, и он ходил в этих мощных очках, модных среди тогдашних крутых — резные дужки, линзы с блюдце, — острые глазки метались за ними экзотическими хитрыми рыбками. Он ни минуты не мог оставаться в покое, вскочит, сядет, опять вскочит, и под своими высокими потолками был как гладкий орешек, бренчащий в слишком крупной для него скорлупе. Когда я пришел в первый раз, он гордо таскал меня по квартире, демонстрировал картины, сплошь старых мастеров — так он воображал, — гигантский телевизор, оправленный каштановым деревом, бутылку «Дом Периньона» и корзину безупречных несъедобных фруктов, присланную накануне коллегой — у Чарли не было друзей, партнеров, клиентов, сплошные коллеги. Свет лета густым медом натекал в окно на узоры ковра. Анна сидела на диване, уперев подбородок в ладонь, поджав под себя одну ногу, безучастно глядя, как я топчусь вокруг ее несуразно мелкого папаши. В отличие от других коротышек, он ничуть не робел нас, больших, мой размеры его даже, кажется, ободряли, он чуть ли не влюбленно жался ко мне, и посреди всего этого хвастовства сверкающими плодами успеха выпадали минуты, когда казалось: вот подпрыгнет и уютно устроится у меня на ручках. Когда он в третий раз помянул свой бизнес и я спросил, наконец, о каком бизнесе речь, он обратил ко мне взор, полный чистейшей невинности, сияя своими аквариумами.

Номинант на Букеровскую премию 1989 года.«Улики», роман одного из ярких представителей современной ирландской литературы Джона Бэнвилла, рождается в результате глубокого осмысления и развития лучших традиций европейской исповедальной и философской прозы. Преступление главного героя рассматривается автором как тупик в эволюции эгоцентрического сознания личности, а наказание убийцы заключается в трагической переоценке собственного духовного опыта. Книга прочитывается как исповедь мятущегося интеллекта и подводит своеобразный итог его самоидентификации на исходе XX века.

Классик современной ирландской литературы Джон Бэнвилл (р. 1945) хорошо знаком русскому читателю романами «Афина», «Улики», «Неприкасаемый».…Затмения жизни, осколки прошлого, воспоминания о будущем. Всего один шаг через порог старого дома — и уже неясно, где явь, а где сон. С каждым словом мир перестает быть обычным, хрупкие грани реальности, призраки и люди вплетены в паутину волшебных образов…Гипнотический роман Джона Бэнвилла «Затмение» — впервые на русском языке.
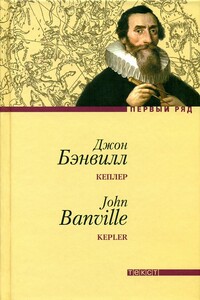
Драматические моменты в судьбе великого математика и астронома Иоганна Кеплера предстают на фоне суровой и жестокой действительности семнадцатого века, где царят суеверие, религиозная нетерпимость и тирания императоров. Гениальный ученый, рассчитавший орбиты планет Солнечной системы, вынужден спасать свою мать от сожжения на костре, терпеть унижения и нужду, мучится от семейных неурядиц.

Это — ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ ДЕТЕКТИВ.Но — детектив НЕОБЫЧНЫЙ.Детектив, в котором не обязательно знать, кто и зачем совершил преступление. Но такое вы, конечно же, уже читали…Детектив, в котором важны мельчайшие, тончайшие нюансы каждого эпизода. Возможно, вы читали и такое…А теперь перед вами детектив, в котором не просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ ФИНАЛА — но существует финал, который каждый из вас увидит и дорисует для себя индивидуально…

Легендарная кембриджская пятерка — люди, всю свою жизнь отдавшие служению советской системе, в одночасье рассыпавшейся в прах. Кто они? Герои? Авантюристы? Патриоты или предатели? Граждане мира? Сегодня их судьбам вполне применимо крылатое выражение «Когда боги смеются…». Боги здесь — история, нам, смертным, не дано знать, каков будет ее окончательный суд.Джон Бэнвилл, один из самых ярких представителей англоирландской литературы, не берется взвешивать «шпионские подвиги» участников «пятерки» на чаше исторических весов.

Если бы у каждого человека был световой датчик, то, глядя на Землю с неба, можно было бы увидеть, что с некоторыми людьми мы почему-то все время пересекаемся… Тесс и Гус живут каждый своей жизнью. Они и не подозревают, что уже столько лет ходят рядом друг с другом. Кажется, еще доля секунды — и долгожданная встреча состоится, но судьба снова рвет планы в клочья… Неужели она просто забавляется, играя жизнями людей, и Тесс и Гус так никогда и не встретятся?

События в книге происходят в 80-х годах прошлого столетия, в эпоху, когда Советский цирк по праву считался лучшим в мире. Когда цирковое искусство было любимо и уважаемо, овеяно романтикой путешествий, окружено магией загадочности. В то время цирковые традиции были незыблемыми, манежи опилочными, а люди цирка считались единой семьёй. Вот в этот таинственный мир неожиданно для себя и попадает главный герой повести «Сердце в опилках» Пашка Жарких. Он пришёл сюда, как ему казалось ненадолго, но остался навсегда…В книге ярко и правдиво описываются характеры участников повествования, быт и условия, в которых они жили и трудились, их взаимоотношения, желания и эмоции.

Светлая и задумчивая книга новелл. Каждая страница – как осенний лист. Яркие, живые образы открывают читателю трепетную суть человеческой души…«…Мир неожиданно подарил новые краски, незнакомые ощущения. Извилистые улочки, кривоколенные переулки старой Москвы закружили, заплутали, захороводили в этой Осени. Зашуршали выщербленные тротуары порыжевшей листвой. Парки чистыми блокнотами распахнули свои объятия. Падающие листья смешались с исписанными листами…»Кулаков Владимир Александрович – жонглёр, заслуженный артист России.

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности.

Действие книги известного болгарского прозаика Кирилла Апостолова развивается неторопливо, многопланово. Внимание автора сосредоточено на воссоздании жизни Болгарии шестидесятых годов, когда и в нашей стране, и в братских странах, строящих социализм, наметились черты перестройки.Проблемы, исследуемые писателем, актуальны и сейчас: это и способы управления социалистическим хозяйством, и роль председателя в сельском трудовом коллективе, и поиски нового подхода к решению нравственных проблем.Природа в произведениях К. Апостолова — не пейзажный фон, а та материя, из которой произрастают люди, из которой они черпают силу и красоту.
