Мои седые кудри - [70]
Привел однажды иноземца к заветному Черному роднику в Ханикгоме, стал рассказывать, что по обычаю предков он посвятил родник этот покойным братьям. Нашел его в горах, вскрыл жилу, ухолил… Но иноземец уже не слушал про печальную судьбу-злодейку, которая раскогтилась над дедушкиными братьями, он вдруг повеселел, дотошно осмотрел Черный родник и достал со дна несколько блестящих камней. Все приглаживал и причмокивал: «Ай, спасибо!.. Не Черный это, Золотой родник есть!..» Дед только рукой махнул: «Бери, бери свои камни!» Чужеземец расщедрился, дал деду золотой кругляк и все повторял, точно боялся, что дед мой забудет: «Золотой родник, секрет есть… Никто знайт нельзя! Твой тайна — мой тайна!»…
Усомнился дед, а вдруг и правда не простой это родник, а золотой.
После все изводился, что показал чужестранцу заветное место, и зачастил к роднику, словно на могилу. Говорил, что гонит туда его тоска по братьям. Там будто легчает ему. Берег родник пуще глаза. Бывало, завалят каменья его сокровище, он силушку всю положит, но не отступится, пока не откопает. Зимою родник снегом засыпало, и снова деду нет покоя, идет, расчищает: «Разве можно, говорит, чтобы освященный клятвой родник под обвалом терялся. А вдруг братья с того света явятся, и пить захотят, и не смогут своим кровным попользоваться, — проклятья на меня ниспошлют!..» А сам все искал в нем золото…
Но пришло время на тот свет собираться, и открылся тогда старый моей матери. Позвал ее к себе и сказал: «Чындз[1], тебе только верю… Поклянись, что никакому другу, никакому лиходею не промолвишься о моей тайне». И рассказал о золотоносной горе, из-под которой бьет Черный родник. Только злое это золото. Добра бедному человеку оно не принесет. Бедному от золота одни слезы. Переведется зло на земле, тогда и золото в руки дастся, незлобой обернется. Напоследок отдал он ей золотой пятирублевый кругляк, которым оделил его иноземец. Спрятала мать моя денежку, спросила: почему ей, а не старшему, не среднему и не младшему сыну вручает он свое добро, как полагается по обычаю? «Нет, — вздохнул дед. — Задумают делить, передерутся и сгинут, как сгинули братья мои». И взял дед с матери слово: «Чындз, обо всем скажешь только первенцу своему, когда он станет с ружьем ходить на охоту и начнет сено в горах косить. Авось и жизнь повернется тогда другим концом. Изведут люди зло, которое золотом окроплено. Дай-то бог…»
Однажды, когда мать моя тяжело заболела и перепугалась, что не встанет уже на ноги, она в горячке нарушила слово и поведала все мне. Хоть и не мальчик я, а все же первенец. От нее я узнала и о Черном роднике, и о злосчастной золотой пятирублевке — виновнице столького горя…
Земля в наших горах всегда была бесценным богатством. Голод оставался хозяином на столе куртатинца. Своего ячменного хлеба едва хватало на три-четыре месяца. А потом что бог даст. И тянулись на скрипучих арбах люди в низину за горсткой кукурузы. Везли с собой последние головки сыра, последнюю шерсть и оставшееся топленое масло, что припасли на черный день за лето. Нужда не убывала, а ртов голодных, ребятишек босоногих становилось все больше и больше. Говорят, голь на выдумки горазда. Вот и умудрялись: выравнивали клок на горе, убирали камни и носили туда на себе землю и навоз. Пашня не пашня, плешь среди каменных завалов, впору буркой накрыть, и выглядит как латка на старой, изношенной шубе, а все же — земля.
Нужда злобила людей, заставляла звериться. Брат поднимал руку на брата. Из-за миски фасоли, не фасоли даже — похлебки — перестрелялись отцовы дядья.
Случилось так, что три брата — самый младший из них мой дедушка — в зимнюю стужу поехали в далекий лес за дровами. В чужой лес, алдарский. Наложили арбу валежника, тронулись в обратный путь, и тут наскочила на них алдарская стража, ружья наставила. Совладать троим против восьмерых было невмоготу. Сорвали стражники одежду с бедняков и заставили босыми, в одном исподнем отплясывать на снегу. Поизмывались вволю, потешились вдоволь.
— На кафтай факафут! Чтоб вам так же плясалось! — только и могли выдавить сквозь зубы несчастные.
Домой вернулись братья злые, пообморозились, дед мой, тот и вовсе занедужил. Привел средний брат его в саклю, накрыл тряпьем. А сам попросил у матери что-нибудь поесть. Изголодался. Мать бессильно указала рукой на очаг — хворала старая:
— Ма хур, солнышкое мое, фасоль одна. Ешь, родненький…
Пока старший брат распрягал быков и задавал им корм, братья его успели уже взяться за миски с похлебкой.
Явился старший и тоже подошел к очагу, над которым висел на цепи небольшой казанок. Зачерпнул, но фасоли там почти не было, одна мутная водичка.
— А где же фасоль, мать? — разозлился старший. Ему показалось, что братья выловили всю густоту. Глянул он в миску среднего брата и увидел несколько фасолинок на донышке. Вскинулся: — Ах ты обжора! Не брат, а враг! — Схватил в сердцах ружье, висевшее на стене сакли, и тут же грохнул выстрел. Сползла с постели мать и заголосила над мертвым сыном.
Младший брат, мой дед, хоть и обессилел, но подскочил, выхватил ружье у остолбеневшего братоубийцы и сам обезумел…

Следы остаются — первая книга о милиции Северной Осетии. Вместе со всеми органами внутренних дел страны сотрудники милиции республики стоят на переднем крае борьбы с пережитками прошлого в сознании людей. Решительно пресекая преступные посягательства на социалистическую и личную собственность граждан, личность и права советских людей, они борются за утверждение социалистической законности и справедливости, за высокую дисциплину и образцовый общественный порядок. В создании сборника приняли участие журналисты, работники МВД республики.

Известный осетинский писатель Тотырбек Джатиев — автор более тридцати книг, несколько из них посвящены героической борьбе народов Кавказа против немецко-фашистских захватчиков. В настоящий сборник включены три документальные повести: «Пламя над Тереком», «Иду в атаку», «Тайными тропами», уже издававшиеся в «Советском писателе».

Осетинский писатель Тотырбек Джатиев, участник Великой Отечественной войны, рассказывает о событиях, свидетелем которых он был, и о людях, с которыми встречался на войне.
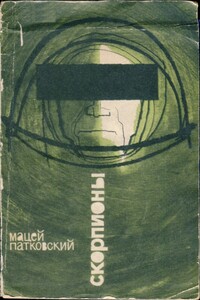
Без аннотации.Вашему вниманию предлагается произведение польского писателя Мацея Патковского "Скорпионы".

Клер Мак-Маллен слишком рано стала взрослой, познав насилие, голод и отчаяние, и даже теплые чувства приемных родителей, которые приютили ее после того, как распутная мать от нее отказалась, не смогли растопить лед в ее душе. Клер бежала в Лондон, где, снова столкнувшись с насилием, была вынуждена выйти на панель. Девушка поклялась, что в один прекрасный день она станет богатой и независимой и тогда мужчины заплатят ей за всю ту боль, которую они ей причинили. И разумеется, она больше никогда не пустит в свое сердце любовь.Однако Клер сумела сдержать не все свои клятвы…
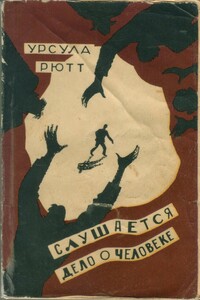
Аннотации в книге нет.В романе изображаются бездушная бюрократическая машина, мздоимство, круговая порука, казарменная муштра, господствующие в магистрате некоего западногерманского города. В герое этой книги — Мартине Брунере — нет ничего героического. Скромный чиновник, он мечтает о немногом: в меру своих сил помогать горожанам, которые обращаются в магистрат, по возможности, в доступных ему наискромнейших масштабах, устранять зло и делать хотя бы крошечные добрые дела, а в свободное от службы время жить спокойной и тихой семейной жизнью.

В центре нового романа известной немецкой писательницы — женская судьба, становление характера, твердого, энергичного, смелого и вместе с тем женственно-мягкого. Автор последовательно и достоверно показывает превращение самой обыкновенной, во многом заурядной женщины в личность, в человека, способного распорядиться собственной судьбой, будущим своим и своего ребенка.

![Электротерапия. Доктор Клондайк [два рассказа]](/storage/book-covers/d8/d84efd2c8d9694f782c81e385d8414b9602f6dab.jpg)