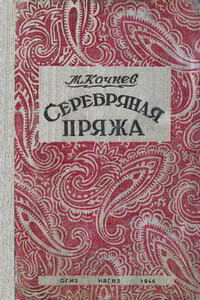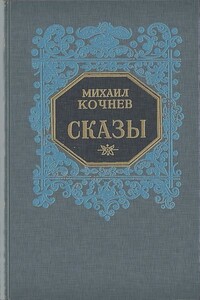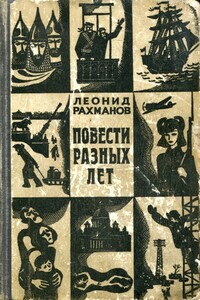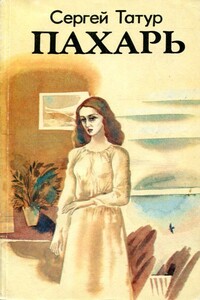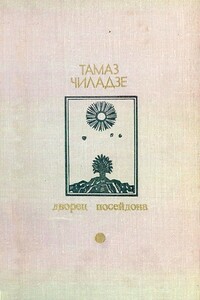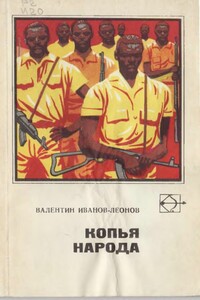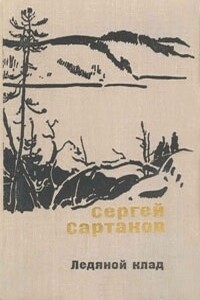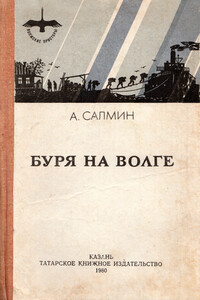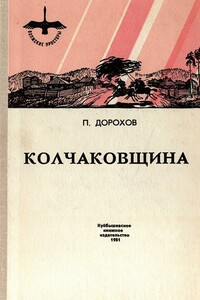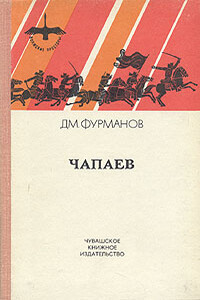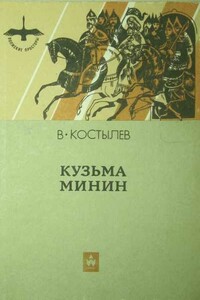Достижения Кочнева в жанре сказа бесспорны и значительны, хотя в работе над ними у писателя встречалось немало трудностей, были и серьезные неудачи. Длинноты, многословие, перегруженность описательным материалом, прямая стилизация фольклора, невыдержанность сказового стиля — вот что приходилось преодолевать писателю в процессе овладения сказовым мастерством. Лучшие его произведения свидетельствуют об умении автора подчинить идейному замыслу разнообразные художественные средства и приемы, использовать в выразительных целях богатства русского языка, живой народной речи, фольклорных творений самых разных жанров. Язык сказов Кочнева образный, напевный, эмоциональный, богатый по колориту. В нем спрессована народная мудрость и народный юмор, афористически переданы взгляды и чувства рабочего человека: «Мастерство и золото на одни весы не кладут»; «Всякое дело человеком славится»; «Без волненья, без заботы не жди радости от работы»; «Мастерство-то когда придет — и почет и славу приведет» и т. д.
Красочен, живописен кочневский пейзаж, он помогает лучше представить яркое и самобытное «ситцевое царство», среднерусскую природу, Верхнюю Волгу. Дается он зачастую через восприятие рассказчика — человека труда, влюбленного, в свой край и свое дело. Отсюда налет сказочности в пейзажах, что находит свое выражение в характере повествования, его ритме и образах.
Вот выразительный пример из сказа «Голубой мотылек»: «Такая кисть волшебница: за стеной метелица поет, вдоль по улице снег пушистый стелется, а перед тобой весна красна. Сама пришла, охапку цветов принесла, выпустила из широкого рукава птиц вереницы, разбросала по небу. А цветы… Что только за цветы! Не вянут, не блекнут ни в жару, ни в стужу». Здесь дан пейзаж, преображенный волшебной кистью фабричного художника Проклыча, который учит юного героя сказа наблюдать «добрую мать-природу», оттуда черпать вдохновение и краски: «С крыльцев мотылька, с радужного лепестка прилежная да умелая рука, трудолюбивая может снять такой узор, какого ни за одним морем не было, да и нет».
С образами природы в сказах тесно связаны сказочно-фантастические персонажи: Березовый хозяин, Полянка, Волжанка-служанка, Горностайка и др. Вырастая из природы, они действуют заодно с ней. Но, по верному замечанию писателя Д. Нагишкина, «сквозь сказочную ткань этих образов просвечивает их земной костяк». Для передачи реального через сказочное требовался от писателя немалый художественный такт и мастерство, и то и другое в полной мере было свойственно М. X. Кочневу.
* * *
Творчество М. X. Кочнева не ограничивается жанром литературного сказа. Его перу принадлежат пять романов («Потрясение», «Оленьи пруды», «Отпор», «Твердыни», «Дело всей России»), очерковая книга «Советский инженер», несколько стихотворных сборников, сценарная кинотрилогия о русских богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче (издан лишь сценарий «Илья Муромец», который был экранизирован режиссером А. Птушко). Однако больше всего писатель известен именно как автор сказов. Его имя произносится вслед за Бажовым — корифеем этого жанра литературы.
Сказы Кочнева, поэтизирующие творческий труд и мастерство, высоко поднимающие чувство рабочей чести и мораль трудового народа, проникнуты духом жизнеутверждения и оптимистическим мироощущением, прочно, связаны с фольклорными и литературными традициями отечественной словесности. Они стали заметным явлением советской литературы, и вполне понятен и объясним устойчивый интерес к ним читателя.
П. КУПРИЯНОВСКИЙ,
доктор филологических наук
Сказ с рассказом живут рядом. Сказка тоже в дружбе с ними: рассказ и сказка как бы по бокам идут, а сказ — в середочке. У сказа, как у поговорки, уши чутки, глаза зорки. Только вот о чем не забывай: сказ не сам по земле ходит — жизнь за собой его водит.
* * *
Было это в давние времена. Еще крепостной хомут висел на шее у народа. Но и в ту пору меж Волгой и Клязьмой славилось доброе мастерство. Земля-то у нас в старину, при сохе да бороне, плохой была кормилицей. В поле колос от колоса — не слыхать человеческого голоса.
Вот и уходили с землицы на промысла: в штукатуры, каменщики, плотники, гончары, в шерстобиты да челночники. А больше всего по домам пряли да ткали.
Помещики смекнули, что на крестьянском веретене средь льняных-то ниток попадается серебряная. Раз серебряная, так они, будь спокоен, ту нитку — себе. Напряди, натки — да барину подать неси!
Неподалеку от Кинешмы скрипел, как гнилая осина, старый барин Балдин. Давно уж князишко этот на сладких сладостях сжевал зубы, остались язык да губы; рот у него перетащило на щеку. Уродище. Но это чучело в двадцати деревнях народ мучило. Понял косоротый барин, что пряжа да полотна — статья доходная, и приноровился с подъяремных драть сборы да оброки разные и прядевом. Чем больше дерет — тем жадней становится.
До того этот живодер домучил ткачей и прях, что у парней, у девушек без поры, без времени румянец с лица вытравил, старикам без морозов сердца вызнобил.
Жила в одном ближнем приселке, Баскакинском, пряха Аннушка. Глаза у девицы — что звезды; русая коса ниже пояса, ручьем с плеч. Да еще жил там молодой ткач Харлампий — умелец, трудолюбец.