Миры и столкновенья Осипа Мандельштама - [21]
Мотовилиха — реальный топоним. Но для Пастернака это не имя места, а место самого имени, некая исходная топологическая структура рождения имени, сохраняющаяся во всех преобразованиях. Русско-французский каламбур позволяет открыть в имени Мотовилиха что-то, к непосредственной номинации не относящееся, а именно — структуру имени как такового, а не именем чего оно является. «Бормотание», также фигурирующее у Пастернака, — первородный гул, шум, из которого рождается слово, и одновременно — само слово, mot. Вернее, это уже не шум, но еще и не язык. В «Начале века» А. Белого: «…Я — над Арбатом пустеющим, свесясь с балкона, слежу за прохожими; крыши уже остывают; а я ощущаю позыв: бормотать; вот к порогу балкона стол вынесен; на нем свеча и бумага; и я — бормочу: над Арбатом, с балкончика; после — записываю набормотанное. Так — всю ночь…».
Важно, что само пастернаковское называние — зов и вызывание непонятного, алкание безымянного («как зовут непонятное…»). Этим зовом манифестируется уход в собственное первоначало, т. е. в молчание. Удел поэта — «окликать тьму» (I, 240). Когда Марина Цветаева пишет: «…Имя — огромный вздох, / И в глубь он падает, которая безымянна» (I, 284), — это не просто красивая метафора. Лингвоцентричность нашего сознания не позволяет ухватить фундаментальной интуиции этого парадоксального определения. Что значит эта деструкция имени, превращение его в ничто, вздох, пустое место? Причем речь идет об имени Анны Ахматовой. Она, как известно, была именным указом акмеизма. Ее имя олицетворяло целое направление: «Самое слово „акмеизм“, — вспоминал Пяст, — хотя и производилось <…> от греческого „акмэ“ — „острие“, „вершина“, — но было подставлено, подсознательно продиктовано, пожалуй, этим псевдонимом-фамилией [Ахматовой]».
Полный и безымянный вздох собственного имени делает Гейне в «Мемуарах»: «Здесь, во Франции, мое немецкое имя Heinrich перевели тотчас же после моего прибытия в Париж как Henri, и мне пришлось приспособиться к этому и в конце концов называть себя этим именем, оттого, что французскому слуху неприятно слово Heinrich и оттого, что французы вообще устраивают все на свете так, чтоб им было поудобнее. Henri Heine они тоже никак не могли произнести правильно, и у большинства из них я называюсь мосье Анри Эн, многие сливают это в Анрьен, а кое-кто прозвал меня мосье Un rien» (IX, 234). За глубочайшей иронией — ясное понимание того, что имя отбрасывает тень. Оборотная сторона, решка имени — ничто, пустяк, игра в капитана Немо. Таков «Ник. Т-о» Анненского.
Имя — это не то, что дано, неразложимо и конвенционально просто. Имя как знак может быть заменено другими знаками, и оно исчезает в своем употреблении. В литературе имя превращается в сложно организованную и непрозрачную символическую структуру. Оно кристаллизует в себе единство понимания того, что называет. Слово не пропускает света. Оно еще должно свершиться, стать, произойти как событие в мире. Оно заново рождается и устанавливается этим безымянным вздохом. Имя рождается, а не присваивается. Произведение имени и произведение именем самого творца — вот негласное правило литературы. Вяч. Иванов назвал как-то молчание математическим пределом внутреннего тяготения слова. За этим пределом и рождается имя.
Хлебников наиболее разнообразен в освоении mot. И недаром в стихотворении о мироздании, творимом именами великой классики, он пишет: «О, Достоевский — мо бегущей тучи, / О, пушкинноты млеющего полдня. / Ночь смотрится, как Тютчев…» (II, 89). Маленькое «натуралистическое» стихотворение Хлебникова, посвященное бытию слова:
Как говорил Ролан Барт: «Письмо — это способ мыслить Литературу, а не распространять ее среди читателей». Это не энтомологическая зарисовка, а поэтологический этюд, посвященный природе слова. Развернутая картина такого поэтического природоведения предстанет потом в «Мухах мучкапской чайной» Пастернака. «Mot» постоянно опрокидывает слово на себя. De re равно здесь de dicto. Хлебников говорит именно ослове «муха». Сама «муха» должна превратиться в «слово», у которого появятся мордочка и лапки. Вода может быть холодной или горячей, но идея воды — ни холодна и ни горяча. Поэт же должен саму идею, само слово сделать холодным или горячим. В этом и заключается предметность лирики. Слово-муха, «мухослово» — единица речи. Экзистенциальная тоска «мух-мыслей» Анненского преображается в любознательно-детском удивлении «мух-слов» Хлебникова. У позднего Набокова есть небольшое стихотворение, и он знает, о чем пишет:
Ловля люциферической бабочки, райского сумеречника, — первообраз творческого акта. Бабочка — слово. Как и Хлебников, Набоков насыщает русскую текстуру франкоязычным звучанием слова — «mot», окрашенным мандельштамовской мольбой, обращенной к Франции: «Я молю, как жалости и милости, Франция, твоей земли и жимолости». Омри Ронен говорит, что мандельштамовский текст станет понятнее, если его перевести на французский.
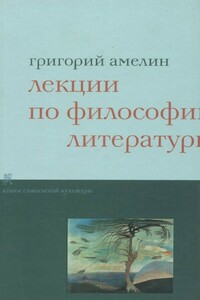
Этот курс был прочитан на философском факультете РГГУ в 2003–2004 годах. Но «Лекции по философии литературы» — не строгий систематический курс, а вольные опыты чтения русской классики — Пушкина, Толстого, Достоевского с точки зрения неклассической философии, и одновременно — попытка рассмотрения новейшей литературы XX века (от Анненского до Набокова) в рамках единства Золотого и Серебряного веков.Книга чистосердечно для всех, кто интересуется русской литературой.

Данная книга, являющаяся непосредственным продолжением нашей совместной работы: Г. Г. Амелин, В. Я. Мордерер «Миры и столкновенья Осипа Мандельштама» (М.: Языки русской культуры, 2000), посвящена русской поэзии начала XX века. Имманентные анализы преобладают. Однако есть и общая интертекстуальная топика. Три главных героя повествования – Хлебников, Мандельштам и Пастернак – взяты в разрезе некоторых общих тем и глубинных решений, которые объединяют Серебряный век в единое целое, блистательно заканчивающееся на Иосифе Бродском в поэзии и Владимире Набокове в прозе.«Письма о русской поэзии» рассчитаны на философов, литературоведов и всех, кто интересуется русской поэзией.

В основе книги - сборник воспоминаний о Исааке Бабеле. Живые свидетельства современников (Лев Славин, Константин Паустовский, Лев Никулин, Леонид Утесов и многие другие) позволяют полнее представить личность замечательного советского писателя, почувствовать его человеческое своеобразие, сложность и яркость его художественного мира. Предисловие Фазиля Искандера.
![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В. С. Гроссман – один из наиболее известных русских писателей XX века. В довоенные и послевоенные годы он оказался в эпицентре литературных и политических интриг, чудом избежав ареста. В 1961 году рукописи романа «Жизнь и судьба» конфискованы КГБ по распоряжению ЦК КПСС. Четверть века спустя, когда все же вышедшая за границей книга была переведена на европейские языки, пришла мировая слава. Однако интриги в связи с наследием писателя продолжились. Теперь не только советские. Авторы реконструируют биографию писателя, попутно устраняя уже сложившиеся «мифы».При подготовке издания использованы документы Российского государственного архива литературы и искусства, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Федеральной службы безопасности.Книга предназначена историкам, филологам, политологам, журналистам, а также всем интересующимся отечественной историей и литературой XX века.

Книга посвящена анализу поэтики Достоевского в свете разорванности мироощущения писателя между европейским и русским (византийским) способами культурного мышления. Анализируя три произведения великого писателя: «Записки из мертвого дома», «Записки из подполья» и «Преступление и наказание», автор показывает, как Достоевский преодолевает эту разорванность, основывая свой художественный метод на высшей форме иронии – парадоксе. Одновременно, в более широком плане, автор обращает внимание на то, как Достоевский художественно осмысливает конфликт между рациональным («научным», «философским») и художественным («литературным») способами мышления и как отдает в контексте российского культурного универса безусловное предпочтение последнему.

Анну Керн все знают как женщину, вдохновившую «солнце русской поэзии» А. С. Пушкина на один из его шедевров. Она была красавицей своей эпохи, вскружившей голову не одному только Пушкину.До наших дней дошло лишь несколько ее портретов, по которым нам весьма трудно судить о ее красоте. Какой была Анна Керн и как прожила свою жизнь, что в ней было особенного, кроме встречи с Пушкиным, читатель узнает из этой книги. Издание дополнено большим количеством иллюстраций и цитат из воспоминаний самой Керн и ее современников.

Издательство «Фолио», осуществляя выпуск «Малороссийской прозы» Григория Квитки-Основьяненко (1778–1843), одновременно публикует книгу Л. Г. Фризмана «Остроумный Основьяненко», в которой рассматривается жизненный путь и творчество замечательного украинского писателя, драматурга, историка Украины, Харькова с позиций сегодняшнего дня. Это тем более ценно, что последняя монография о Квитке, принадлежащая перу С. Д. Зубкова, появилась более 35 лет назад. Преследуя цель воскресить внимание к наследию основоположника украинской прозы, собирая материал к книге о нем, ученый-литературовед и писатель Леонид Фризман обнаружил в фонде Института литературы им.