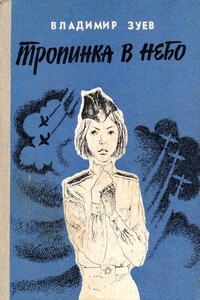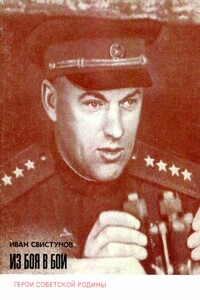Он говорил и говорил, не давая Мите вставить и слова. Когда тот пытался перебить, Николай Степанович повышал голос и заглушал мальчика. Митя посидел, съел картошку и молча ушел. Издали донеслось его «тирли-тирли-тирли».
— Надо его в больницу, — сказал Николай Степанович.
— А что, там ему сестру вернут? — угрюмо откликнулась Манюшка.
— Сестру ему уже никто не вернет, но хоть самого вылечат.». — Помолчав, он сказал тихо и как бы виновато: — Не могу его слушать… Вот тоже человек из войны. Пока он жив, ее не забудешь… А разве в нас она не будет жить до скончания наших дней? Разве у нас мало там… — он постучал пальцем по груди, — ран, потерь, кошмарных воспоминаний?
Манюшке тоже было кого и что вспомнить, и самая свежая рана была у них общей. «Приду — тебя дома нет». Хлебая уху, девочка вскидывала глаза на скорбное лицо дяди Николая, и его боль пронзительно отдавалась в ней.
В молчании закончили они обед. Манюшка вымыла котелок и ложки и легла на траву у самой кромки реки, текущей здесь почти вровень с берегом. Опустив руку в воду, она почувствовала, как Навля мягко обволокла ее своими струями и стала тихо и ласково поглаживать. И как будто покатилась по душе, омывая ее.
Подошел Николай Степанович, лег рядом.
В лучах солнца Навля светилась, взблескивая гребешками на быстрине. В знойном полуденнотихом воздухе слышалось безостановочное шуршание ее у берега, звонко-гортанное взбулькивание в соседнем виру, нешумные всплески. Знойно зудели над нею шмели.
— Течет и течет себе, — задумчиво сказал дядя Николай. — Из прошлых веков в будущие. Сколько поколений сменилось и сменится еще на ее берегах! Подумать только!
— Дядь Николай, неужто вы тут мальчиком… бегали, купались? — вдруг поразилась Манюшка.
— Не только я, но и мой дед, и дед моего деда, и дед того деда. — Он опустил руку в воду, рядом с ее рукой, пальцами коснулся ее пальцев. — А ты, Манюш, чего со мной ка вы? Говори мне ты.
Она поняла его.
— Ладно… тятя.