Метафизика Петербурга - [3]
Начав со строго научного определения метафизики Петербурга, мы поведем далее наш рассказ в довольно свободной форме – в надежде, что для внимательного читателя, тем более для ученого, ближе знакомого с материалом, не составит большого труда восстановить внутреннюю логику нашего повествования, руководствуясь как его общим духом, так и расставленными по тексту краткими пояснительными замечаниями. При желании получить более подробную историческую справку или отсылку к конкретным научным источникам, достаточно будет обратиться к нашей трехтомной монографии «Метафизика Петербурга», выпущенной в 2003–2005 годах издательством «Алетейя», где соответствующий научный аппарат наличествует в необходимой полноте. Более красочный видеоряд представлен в 16-серийном фильме «Метафизика Петербурга», снятом на Международной телерадиокомпании «МИР» в 2003 году, и с тех пор с неизменным успехом идущем на телеэкранах России и стран СНГ.
Книга посвящена матери автора – блокаднице, прима-балерине Мариинского театра Нонне Ястребовой.
Глава I. Северная столица
Финская почва
Город у финской границы
В годы Северной войны театр военных действий распространялся и на Финляндию. Видя ее стратегическое значение для Петербурга, Петр I не считал оккупацию страны первоочередной задачей. «Хотя она (Финляндия – Д.С.) нам не нужна вовсе, удерживать ради причин главнейших: первое, было бы что при мире уступить», – писал царь в известном послании к своему генерал-адмиралу Ф.М.Апраксину, – «другое, ежели Бог допустит летом до Абова, то шведская шея легче гнуться станет». Письмо было писано и принято к сведению в 1713 году. Как выяснилось вскоре, Бог до Абова допустил, и «шведская шея» действительно стала легче гнуться. Абовом у нас называли главный город Финляндии Або, в шведском произношенни Обу (Åbo), теперь более известный под финским именем Турку. Находясь на юго-западе страны, он был ближе других к Стокгольму и в известном смысле слова «представлял» его – так же, как в следующем веке Гельсингфорс стал «финляндским дублером» Петербурга. Согласно Ништадтскому миру 1721 года, занятая территория Финляндии была возвращена шведам. По сути, им они получили грозное предупреждение, но особого действия оно не возымело: страну скорее эксплуатировали, чем развивали. В ходе войны 1741–1743 годов российские войска загнали шведскую армию на территорию нынешнего Хельсинки, некоторых поубивали, а большинство взяли в плен. Императрица Елизавета Петровна издала манифест, где обещала финляндцам вольности. То был хорошо рассчитанный шаг: все больше взглядов стало обращаться к Петербургу. По Абоскому мирному договору 1743 года, к России отошла еще полоса территории севернее Выборга.
После этой войны шведы принялись за строительство крепости Свеаборг на островах, прикрывающих Гельсингфорс со стороны залива. Работы были поставлены на широкую ногу: в непосредственной близости от границы России год за годом рос «северный Гибралтар», как тогда любили называть крепость (окрестные финны превратили Свеаборг в «Виапори»). Тем не менее собственно Гельсингфорс, то есть город, где под защитой крепостных пушек должны были развиваться промышленность и торговля, рос очень медленно. В 1760 году он состоял всего из 4 кварталов деревянной застройки, население которых не превышало двух тысяч человек. Создавалось впечатление, что шведы не усвоили урока утраченного навсегда Ниеншанца. В следующей большой войне 1808–1809 годов они окончательно потеряли Финляндию. Война велась в годы Тильзитского мира, и соответствовала заложенной в нем концепции европейского баланса сил. Светская молва свела дело к анекдоту. Во время одного из обедов в Тильзите разговор зашел о том, что во время последней русско-шведской войны (1788–1790) одно из сражений велось так близко к Петербургу, что канонада была в нем отчетливо слышна, и многие дамы перетрусили. Рассказ взволновал Наполеона. Он озабоченно сказал, что война войною, но пугать петербургских дам – это совсем не дело. В крайнем случае, надобно занять Финляндию и прекратить это. Александр I задумчиво посмотрел на него своими прекрасными глазами – и согласился. Участь Финляндии была решена.
Современная шведская историография рассматривает потерю этой страны как крупнейшую катастрофу своей истории. Согласно авторитетному мнению современных составителей капитальной «Истории шведской внешней политики» С.Карлссона и Т.Хёйера, «утрата Финляндии была самым важным событием за всю историю шведского государства». Точно так же потеря Финляндии, признанная Советом народных комиссаров через столетие после того, в конце 1917 года, в свою очередь ознаменовала крушение другой великой державы – петербургской империи. Заметим, что шведские политики начала XIX века довольно легко перенесли утрату Финляндии. Для них последним словом в политической науке была концепция «естественных границ», восходившая к Монтескье. В соответствии с нею, нужно было не удерживать Финляндию, а обратить все внимание на Норвегию, создав с нею неприступное государство в границах, очерченных Скандинавским полуостровом. Эта точка зрения пользовалась особым вниманием при дворе бывшего наполеоновского маршала Ж.-Б.Бернадота, вступившего на шведский трон под именем Карла Юхана в 1810 году. Сам он относился к идее возвращения Финляндии едва ли не с отвращением. «Я знаю тернии этого положения, – говорил он, – Я избран небольшой партией, и не ради моих прекрасных глаз, а как вождь, с условием, которое обходят молчанием – отвоевать Финляндию. Но начинать из-за этого войну было бы безумием, к которому я не приложу рук». Как известно, король повел дело прочь от Финляндии – а именно, к шведско-норвежской унии. Лишь к середине XIX века, в Швеции была выработана и приобрела влиятельность концепция «скандинавизма». Она подразумевала федерацию скандинавских стран, включавшую и Финляндию на правах автономии.
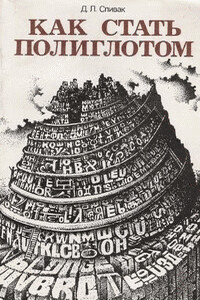
Каждый ли человек способен овладеть иностранным языком? Какой язык целесообразнее изучать? Существуют ли научно обоснованные методики, облегчающие овладение языками? С какого возраста следует обучать языку своего ребенка?Эти и многие другие вопросы интересуют каждого культурного человека. В поисках ответа на них читателю доведется углубиться в запыленные фолианты, рассказывающие о захватывающей истории полиглотов, заглянуть в лаборатории психолингвистов, раскрывающих тайны многоязычия, побеседовать с людьми самых разных профессий и возрастов, отдающих свободное время изучению языков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Есть события, явления и люди, которые всегда и у всех вызывают жгучий интерес. Таковы герои этой книги. Ибо трудно найти человека, никогда не слыхавшего о предсказаниях Нострадамуса или о легендарном родоначальнике всех вампиров Дракуле, или о том, что Шекспир не сам писал свои произведения. И это далеко не все загадки эпохи Возрождения. Ведь именно в этот период творил непостижимый Леонардо; на это же время припадает необъяснимое на первый взгляд падение могущественных империй ацтеков и инков под натиском горстки авантюристов.

Издание представляет собой сборник научных трудов коллектива авторов. В него включены статьи по теории и методологии изучения культурогенеза и культурного наследия, по исторической феноменологии культурного наследия. Сборник адресован культурологам, философам, историкам, искусствоведам и всем, кто интересуется проблемами изучения культуры.Издание подготовлено на кафедре теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и подводит итоги работы теоретического семинара аспирантов кафедры за 2008 – 2009 годы.Посвящается 80-летнему юбилею академика РАЕН доктора исторических наук Вадима Михайловича Массона.

Книга состоит из очерков, посвященных различным сторонам духовной жизни Руси XIV‑XVI вв. На основе уникальных источников делается попытка раскрыть внутренний мир человека тех далеких времен, показать развитие представлений о справедливости, об идеальном государстве, о месте человеческой личности в мире. А. И. Клибанов — известнейший специалист по истории русской общественной мысли. Данной книге суждено было стать последней работой ученого.Предназначается для преподавателей и студентов гуманитарных вузов, всех интересующихся прошлым России и ее культурой.

Автор, на основании исторических источников, рассказывает о возникновении и развитии русского бала, истории танца и костюма, символике жеста, оформлении бальных залов. По-своему уникальна опубликованная в книге хрестоматия. Читателю впервые предоставляется возможность вместе с героями Пушкина, Данилевского, Загоскина, Лермонтова, Ростопчиной, Баратынского, Бунина, Куприна, Гоголя и др. побывать на балах XVIII–XX столетий.Это исследование во многом носит и прикладной характер. Впервые опубликованные фигуры котильона позволяют воспроизвести этот танец на современных балах.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Издание является первым полным русским переводом двух книг выдающегося американского литературоведа Хэролда Блума, представляющих собой изложение оснований созданной им теории поэзии, в соответствии с которой развитие поэзии происходит вследствие борьбы поэтов со своими предшественниками.