Мемуарески - [21]
писал о нем Лессинг.
А Бонди объяснял, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Конечно, Ахматову на общей лекции он еще не цитировал. Ни Ахматовой, ни Цветаевой, ни даже Пастернака в программах русского отделения филологического факультета еще не было. А уж о Мандельштаме вообще никто никогда не заикался. Студенты-русисты, конечно, эти имена знали. Например, Саша Морозов (он был на несколько курсов старше нас) вообще был помешан на поэзии Мандельштама и знал наизусть все, что тогда можно было где-то как-то раздобыть.
Что ж, оставался Блок. «Представьте себе, — говорил Бонди, — вы поссорились с женой, она разозлилась и хлопнула дверью. Что пишет по этому поводу поэт?
Вот вам ключ к любой истинной поэзии».
Поэзия возникает тогда, когда поэт страдает. А не тогда, когда он конструирует из слов строки, уповая на то, что из этих конструкций, пусть даже ловко зарифмованных, сами собой возникнут смыслы. После той лекции Бонди мне стало это ясно раз и навсегда.
>Сергей Михайлович Бонди
Между прочим, мне попалась в руки программа курса по русской литературе XX века, который читали в то время в Сорбонне. Весь советский период был представлен лишь одной позицией: Иван Шмелев. «Человек из ресторана». Прекрасное имя и великолепный роман. Но в советской литературе были и другие имена.
Кома
Кома — это ласковое прозвище. Дано было Вячеславу Всеволодовичу Иванову в детстве, потому что есть в его облике нечто шарообразное: а именно круглая большая голова, вмещающая уникальный, глобально функционирующий интеллект. Кома знает множество языков, расшифровал хеттские и тохарские клинописные памятники, и вообще он лингвист номер один urbi et orbi. Докторскую он получил сразу, как только раскрыл рот на защите кандидатской. Такова была, во всяком случае, легенда, ходившая по факультету.
А еще он был агитатором в нашей группе. Именно в нашей. Я по сей день горжусь этим обстоятельством. Агитатор (их теперь называют тьюторами) ни за что не агитировал, но был обязан проводить регулярные политинформации. А Кома их не проводил, но, встречая любого из нас в коридорах, всегда здоровался. Что само по себе было великой честью, и я по сей день горжусь этим обстоятельством. А однажды он поздоровался со мной, но не прошел мимо, а удивленно спросил:
— Что случилось?
— Ничего, Вячеслав Всеволодович.
— Ну как же ничего. Вы были единственным человеком на факультете, который на вопрос: «Как дела?» отвечал: «Хорошо». А сегодня вы сказали: «Так себе».
Когда на факультете, как и во всей стране, началась эта дикая свистопляска вокруг «Доктора Живаго», Иванов не отрекся от Пастернака, отказался его осуждать. Не потому, что был с детства знаком с поэтом, а просто потому, что он не отрекся бы ни от кого другого, оказавшегося в положении Пастернака. Несколько лет спустя я присутствовала на заседании в Институте славяноведения, где ученый совет несправедливо заваливал моего научного консультанта — специалиста по истории книги, дотошного, добросовестного и бесконечно трудолюбивого знатока своего предмета. Иванов был единственным, кто решительно встал на защиту бедного докторанта.
В 2013 году Иванов выступал в клубе «Читалка» на Покровке с чтением своих переводов. Я, конечно, бросилась туда, понимая, что у меня есть шанс еще раз в жизни увидеть самого гениального лингвиста советской и постсоветской эпохи. У меня возник один вопрос, и мне важно было услышать ответ именно от него. Прежде чем я потеряю интерес ко всему на свете. Для начала я представилась, он меня узнал и вспомнил всю нашу группу: Ирину Белоконеву, Алика Карельского, Лешку Леонтьева.
— Вячеслав Всеволодович, — вопросила я, — как, по-вашему, есть ли у человечества шанс сохранить знания и способы их передачи от человека к человеку? Или информация, скапливаемая в Интернете, растворит их в море дурной бесконечности?
Иванов вздохнул, собрался ответить, но промолчал. Потом еще раз собрался с духом — и опять промолчал. А в третий раз только взглянул в зал. И в зале повисла долгая пауза. Я не стала длить эту пытку.
— Спасибо, Вячеслав Всеволодович, — сказала я. — Я вас поняла.
Такой вот был у меня с ним философский диспут.
>Вячеслав Всеволодович Иванов
Либан
Николай Иванович Либан вел семинары по русской литературе девятнадцатого века. Услышав от меня имя Либана, мама сказала: «Надо же, Колька Либан. Из нашей школы. Мы с ним из одной бригады. Нас обучали по бригадному методу, один мог отвечать за всех. Колька
— Либан за всю бригаду отвечал по литературе и истории. Передай ему от меня привет».
Он не был ни кандидатом, ни доктором, ни профессором. Может, потому и дожил до глубокой старости. Другое дело, что русскую литературу он знал и преподавал лучше и интереснее, чем кто-либо еще. Мне довелось прослушать только одну его лекцию — о «Выстреле» Пушкина. Из нее я поняла, что прелесть Пушкина — не только в музыкальности слова, но и в геометрическом изяществе мышления. Что в основе любого пушкинского текста лежит совершенный, завершенный рисунок замысла, некое золотое сечение, незаметное читательскому восприятию, но тем сильнее воздействующее на него. Либан называл меня «потомком» (он имел в виду мою фамилию) и предлагал написать у него курсовую. О Чернышевском. Я попыталась. Для начала прочла диссертацию Чернышевского о понятии прекрасного и с грустью убедилась, что с аксиоматикой у нашего мученика слабовато. Какое-то подростковое гегельянство. «Прекрасное есть жизнь». Разве это дефиниция? Я сдала позиции. Я уже писала курсовую на своей кафедре и две курсовые не потянула. Если бы хоть не Чернышевский…
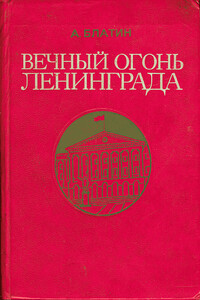
Автор этой книги Анатолий Яковлевич Блатин проработал в советской печати более тридцати лет. Был главным редактором газет «Комсомольская правда» и «Труд», заместителем главного редактора «Советской России» и членом редколлегии «Правды». Войну он встретил в качестве редактора ленинградской молодежной газеты «Смена» и возглавлял ее до апреля 1943 года, когда был утвержден членом редакционной коллегии «Комсомольской правды». Книга написана рукой очевидца и участника героической обороны Ленинграда. В ней широко рассказано о массовом героизме ленинградцев, использованы волнующие документы, письма и другие материалы того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга рассказывает о жизни и творческом пути знаменитой актрисы Любови Петровны Орловой. В издании представлено множество фотографий актрисы, кадры из кинофильмов, сценическая работа....
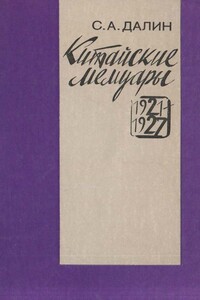
Автор мемуаров неоднократно бывал в 20-х годах в Китае, где принимал участие в революционном движении. О героической борьбе китайских трудящихся за свое освобождение, о бескорыстной помощи советских людей борющемуся Китаю, о встречах автора с великим революционером-демократом Сунь Ятсеном и руководителями Коммунистической партии Китая повествует эта книга. Второе издание дополнено автором.

Основанное на документах Государственных архивов и воспоминаниях современников повествование о главной магистрали значительной части Центрального района современного Санкт-Петербурга: исторического района Санкт-Петербурга Пески, бывшей Рождественской части столицы Российской империи, бывшего Смольнинского района Ленинграда и нынешнего Муниципального образования Смольнинское – Суворовском проспекте и двух самых красивых улицах этой части: Таврической и Тверской. В 150 домах, о которых идет речь в этой книге, в разной мере отразились все периоды истории Санкт-Петербурга от его основания до наших дней, все традиции и стили трехсотлетней петербургской архитектуры, жизнь и деятельность строивших эти дома зодчих и живших в этих домах государственных и общественных деятелей, военачальников, деятелей науки и культуры, воинов – участников Великой Отечественной войны и горожан, совершивших беспримерный подвиг защиты своего города в годы блокады 1941–1944 годов.

В книгу известного режиссера-мультипликатора Гарри Яковлевича Бардина вошли его воспоминания о детстве, родителях, друзьях, коллегах, работе, приметах времени — о всем том, что оставило свой отпечаток в душе автора, повлияв на творчество, характер, мировоззрение. Трогательные истории из жизни сопровождаются богатым иллюстративным материалом — кадрами из мультфильмов Г. Бардина.