Меломаны - [4]
Мы никогда не повторяли только что прослушанной оперы. Она слишком чисто звучала в нас, чтобы посягать на нее нашими голосами. Обычно все вкусы сходились на «Риголетто». Увертюру исполняли «слухачи» — Толька и Слава. Я особенно любил эту увертюру за ее предельную краткость: несколько нарастающих раскатов, где властвуют трубы и медь, — и сразу дворцовый бал и появление герцога.
Это пою я. Пою с поразительным нахальством, бесстыдной выразительностью, самозабвенностью и полным отсутствием слуха. Голос у меня тоже черт-те что, какая-то простуженная, носовая фистула. Толька Симаков с его чистым, сильным дискантом и абсолютным слухом имел куда больше прав на теноровые партии, но по общему решению ему пришлось взять на себя репертуар сопрано. Контральтовые партии поет Слава Зубков, и, конечно, он же ведущий бас. Павлик тешит себя мыслью, что у него глубокий баритон. Он переживает сейчас отроческую ломку голоса и, чтобы не пускать петуха, держит голос не в груди, а в гортани — кажется, что поет удавленник. Впрочем, он не совсем лишен слуха. Зато я превосхожу всех музыкальной памятью: пусть фальшиво, приблизительно, но я могу пропеть любую оперу от начала до конца.
Поскольку Джильда появляется лишь во втором действии, Толька Симаков трудится за графиню Чепрано, а Слава изображает всех придворных подряд. Прихрамывая, входит Павлик — Риголетто… Клянусь, я и сейчас испытываю волнение, вспоминая эти спектакли у дровяных сараев. Для нас все, что там творилось, было ничуть не менее достоверно, чем на сцене. Нам мерещились дворцовые залы, улицы и кабачки Мантуи, наши плечи ласкали атлас, бархат и шелк нарядных одежд. Объясняясь в любви Джильде, я видел не конопатую физиономию Симакова, а нежный ангельский лик дочери Риголетто, — в этом смысле и оперная сцена призывала к известному насилию над собой, — мой голос звучал всей искренностью любовного томления.
Я видел горб за плечами Павлика-Риголетто и холодную сталь под черным плащом Спарафучильо-Зубкова. Но когда из разбойника он превращался в огневую Маддалену, я тоже верил ему.
И Маддалена, набивая себе цену, отвечала чарующим голосом:
А несчастная, обманутая, брошенная Джильда тосковала:
И что-то невнятное хрипел баритоном Риголетто…
Мы не огорчались отсутствием аудитории: у нас не могло быть более благодарных слушателей, нежели мы сами. И все же на самом дне души теплилась надежда, что, пусть ослабленные расстоянием и оттого немало утратившие в своей первозданной прелести, голоса наши достигают чужого слуха, а высокие окна над дверями конюшен пусты лишь потому, что деликатные и благодарные слушатели боятся спугнуть очарование.
Но как-то раз один невольный слушатель нарушил короткое безмолвие, отметившее, по обыкновению, финал знаменитого квартета. Он высунулся из окна третьего этажа, в майке-сетке, с голыми, жирными и волосатыми плечами — один из самых презренных людей дома, зубной техник, деляга Коньков, по кличке Золотишник, — и загремел:
— Будете вы тут орать, мать вашу?! Хотите, чтоб милицию вызвал? — Что-то блеснуло в воздухе, и нас обрызгало холодной водой.
Оперный ансамбль мгновенно распался. Тольку Симакова как ветром сдуло. То была его обычная повадка — при первых признаках опасности дать деру под надежное крыло Данилыча. Я кинулся прочь с тем ликующим чувством, какое во мне всегда вызывал бег. Я здорово бегал и получал почти равное удовольствие от погони и от спасительного бегства. Я наслаждался и тем, что от меня не уйти, и тем, что меня не догнать. Но сейчас, сразу поняв, что прямой опасности нет, я спетлил бег и вернулся назад. Павлик и вовсе не убегал, он лишь ступил в тень, отбрасываемую сараями, и прижался к водосточной трубе. А Слава Зубков соскочил с бревен и вышел на лунный свет, под самые окна.
— Я тебя знаю, обормот! — Коньков далеко высунулся наружу, разглядывая Славу. — Ты у меня наплачешься, стервец!
— Бросьте, — спокойно и ясно прозвучал Славкин голос. — Зачем шуметь? Мы же никому не мешаем. Разве плохо, когда люди поют?
— Ах, ты!.. — Зубной техник грязно и долго выругался.
— Ну ладно… — вздохнул Славка и вдруг взорвался: — Молчать!.. Золотишник!.. Спекулянт!.. Это ты у меня наплачешься, жулябия, сволочь!..
— Ты что… сдурел? — забормотал Золотишник. — Чего орешь?
— Замри, гнида! — Слава нагнулся, резко выпрямился, и обломок кирпича раскололся о стену под самым окном Конькова.
Зубной техник отскочил в глубь комнаты, затем показались две голые руки и с натугой притворили створки окна. То была явная капитуляция.
— Если нас турнут, — задумчиво сказал Слава, — нам хана.
— Здорово ты его!.. — сказал я. — Вот только кирпичом… надо ли?
— Надо, — убежденно сказал Слава; он отвечал мне, но смотрел на Павлика, видимо больше считаясь с его моральной оценкой. — Иначе нам не петь. Конькова только страхом можно взять. Теперь он знает: пощады не жди.

Молодая сельская учительница Анна Васильевна, возмущенная постоянными опозданиями ученика, решила поговорить с его родителями. Вместе с мальчиком она пошла самой короткой дорогой, через лес, да задержалась около зимнего дуба…Для среднего школьного возраста.

В сборник вошли последние произведения выдающегося русского писателя Юрия Нагибина: повести «Тьма в конце туннеля» и «Моя золотая теща», роман «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя».Обе повести автор увидел изданными при жизни назадолго до внезапной кончины. Рукопись романа появилась в Независимом издательстве ПИК через несколько дней после того, как Нагибина не стало.*… «„Моя золотая тёща“ — пожалуй, лучшее из написанного Нагибиным». — А. Рекемчук.

В настоящее издание помимо основного Корпуса «Дневника» вошли воспоминания о Галиче и очерк о Мандельштаме, неразрывно связанные с «Дневником», а также дается указатель имен, помогающий яснее представить круг знакомств и интересов Нагибина.Чтобы увидеть дневник опубликованным при жизни, Юрий Маркович снабдил его авторским предисловием, объясняющим это смелое намерение. В данном издании помещено эссе Юрия Кувалдина «Нагибин», в котором также излагаются некоторые сведения о появлении «Дневника» на свет и о самом Ю.

Дошкольник Вася увидел в зоомагазине двух черепашек и захотел их получить. Мать отказалась держать в доме сразу трех черепах, и Вася решил сбыть с рук старую Машку, чтобы купить приглянувшихся…Для среднего школьного возраста.

Семья Скворцовых давно собиралась посетить Богояр — красивый неброскими северными пейзажами остров. Ни мужу, ни жене не думалось, что в мирной глуши Богояра их настигнет и оглушит эхо несбывшегося…

Довоенная Москва Юрия Нагибина (1920–1994) — по преимуществу радостный город, особенно по контрасту с последующими военными годами, но, не противореча себе, писатель вкладывает в уста своего персонажа утверждение, что юность — «самая мучительная пора жизни человека». Подобно своему любимому Марселю Прусту, Нагибин занят поиском утраченного времени, несбывшихся любовей, несложившихся отношений, бесследно сгинувших друзей.В книгу вошли циклы рассказов «Чистые пруды» и «Чужое сердце».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
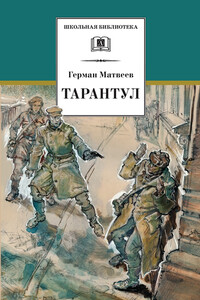
Третья книга трилогии «Тарантул».Осенью 1943 года началось общее наступление Красной Армии на всем протяжении советско-германского фронта. Фашисты терпели поражение за поражением и чувствовали, что Ленинград окреп и готовится к решающему сражению. Информация о скором приезде в осажденный город опасного шпиона Тарантула потребовала от советской контрразведки разработки серьезной и рискованной операции, участниками которой стали ребята, знакомые читателям по первым двум повестям трилогии – «Зеленые цепочки» и «Тайная схватка».Для среднего школьного возраста.

Книгу составили известные исторические повести о преобразовательной деятельности царя Петра Первого и о жизни великого русского полководца А. В. Суворова.
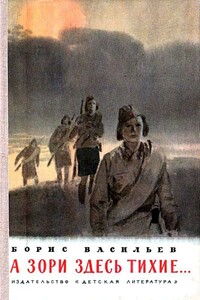
Лирическая повесть о героизме советских девушек на фронте время Великой Отечественной воины. Художник Пинкисевич Петр Наумович.
