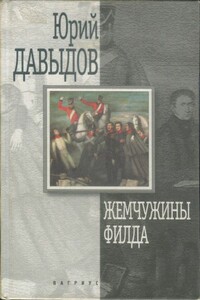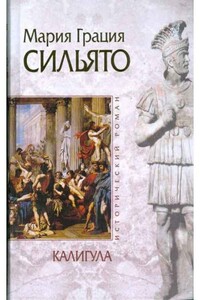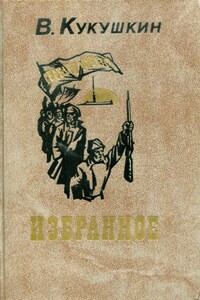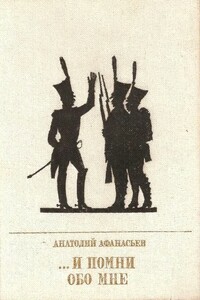Вот окно на чердак. Стекла в проколах пуль. Распахнулось. И они влезли в окно.
А пол был под ними на три сажени вниз. Они висели на стропилах. И по стропилам пролезли внутрь чердака.
Там было темно, и душно, и черно от железных стропил.
Стропила рокотали недовольно, что потревожили их покой. Это старые американские фермы. Простояли сто лет. Это лес лиан из железа под железным небом.
И они прыгали с фермы на ферму, как обезьяны.
Можно было добраться до самого гребня и висеть над пропастью в несколько саженей. Можно спуститься почти до самого пола и снова забраться вверх, не коснувшись его. Можно захотеть и прыгнуть в любую точку пространства. А пол под ними был потолком пышных дворцовых зал, и то, что было там сводом, здесь рисовалось холмом небывалого вида.
И они гонялись друг за другом по сводам и взлетали на фермы — на несколько саженей вверх. И фермы дрожали под их прыжками и смеялись доброжелательно, как смеется старая бабушка над детьми. Нельзя же было сердиться на такую игру.
Аня мчалась как птица, как горная серна. Четко ловила железные прутья между каблуком и ступней. А студент гнался за нею и не мог настигнуть. У него не хватало дыхания.
Девушка ускользала — то под ним, то высоко наверху — и четко ударяла ногами о прутья ферм. И вот студент собрал все силы, чтобы поймать ее, и помчался. А фермы захлебнулись хохотом. Но он загнал девушку под самый гребень крыши и уже настигал.
Она взвизгнула, как взвизгнула бы всякая девушка, которую настигают.
И он настиг.
А сердце колотилось, и он держал ее крепко, чтобы не выпустить. У нее тоже колотилось сердце, и она чувствовала, что больше не побежит. А он сжимал ее крепче и крепче. Так крепко, что осталось одно — поцеловать.
А она тоже думала, что не избежать этого. Так и случилось.
Поцелуй можно было бы слышать, потому что фермы молчали.
Это было под самой крышей. В ней было много дыр. От пуль. От времени. И в одну прорвался солнечный луч.
Самый светлый и ясный, какой только может быть. Из тех, которые играют и переливаются. И луч этот лег у них между лицами и на губах, слившихся в поцелуе.
Но ни он, ни она не знали, что это от солнца. Оба подумали, что это от поцелуя.
А утро передавало диск солнечный в руки дня. У дня руки тверды, как сталь, и блестящи, как никель. Сталь покрывают никелем.
Пустыня осталась пустыней. Стала железной Сахарой под солнцем и небом без единого облачка.
Каменная стража отвернулась. Каменные глаза смотрели на то, что свершалось на земле.
За гребнями крыш не видно, что происходит внизу.
Нева! Мосты! Нева стоит, раскинув свои рукава. А мосты текут! Лавой темной. Темное перекрыто алым!
Через парапет! Скорей! Надо спустить лозунг! Ну как, товарищи, все готовы?
Не ответили. Отвернулись. А в затылках скверное подозрение… Черт с ним, с подозрением. Не до них.
Главный штаб обнял площадь. Багровое объятие. А площади нет. Есть поток. Многих людей, масс. Заполняет площадь. Звенит сотнями «Интернационалов».
И посредине — столб. Гранит красный. И ангел с крестом. А площади нет. Есть поток. Поток несет красное. Несет свое имя.
Скорее, скорее. Держите канаты! Тяните!
И те, кто был на площади, видели, как с карниза падало и разворачивалось гигантское красное полотнище. И камни дворца багровели под ним.
И глаза всех впились в алую волну, захлестнувшую Зимний:
«ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!»
И откликнулось гулом крика — крика всех! Здесь никто не мог кричать в одиночку. Только все.
А те, кто был на крыше, слышали крик этот — крик радости. И руки девушки впились в руки студента. Это было вместо слов, потому что она не могла говорить.
И площадь была как багровый рупор. Рупор всему миру. И все, кто был на крыше, не могли говорить.
А площадь стала багровым кратером. Кипела алой лавой. Выльется алая лава на весь мир.
А день вставал огромный, сверкающий!