Матисс - [5]
Матисс не ставил своей задачей создание трактата об искусстве. Он ограничивался попытками уяснить себе цель и пути своих исканий. Нельзя видеть в его высказываниях ключ к тайнам его мастерства, и потому они не освобождают историка от необходимости критически рассматривать его работы. Высказывания Матисса не складываются в стройную систему, в эстетическую теорию. Он признавал, что „лучшее, что есть у великих мастеров, превосходит их собственные размышления”. Это его утверждение можно отнести и к нему самому.
Матисс понимал и ценил значение в искусстве эксперимента, которым так увлекалась парижская школа. Но он всегда испытывал потребность творить ценности, создавать прекрасные вещи, выражать себя, доставлять людям блаженство и наслаждение. Его воззрения и теории только потому драгоценны, что им следовал большой, высокоодаренный художник, художник, который может быть поставлен рядом со старыми мастерами, как Шарден и Ватто, Пуссен и Клод Лоррен, Делакруа и Энгр. За что бы ни брался Матисс, какие бы задачи он себе ни ставил, он всегда выступает прежде всего как художник. Были у него большие и меньшие удачи, но все, что выходило из его рук, — это подлинное искусство, поэзия красок, на всем лежит отпечаток его таланта, ума и вкуса. В то время, когда далеко не всем даже даровитым художникам удавалось оставаться в пределах искусства, творческая деятельность Матисса была особенно благотворна.
Излюбленные образы и мотивы
Матисс не может быть причислен к художникам, которые обогатили искусство новыми, небывалыми ранее темами. Но у него были свои излюбленные темы, и в их понимание он внес много нового.
Большинство картин Матисса можно разбить по тематике на две группы. В одной из них изображается невиданное, небывалое, но желанное блаженство людей: это темы идиллические, пасторальные, вакхические, картины, рисующие золотой век человечества, с обнаженными телами на фоне цветущей благодатной природы (илл. 6, 7). Картины этого рода большей частью созданы художником по воображению, отчасти как парафразы того, что он находил у своих предшественников в классической живописи, начиная с венецианских мастеров Возрождения и кончая „Большими купальщицами“ Сезанна.
Вторая группа картин — это картины, рисующие людей такими, какими их можно наблюдать в жизни, в домашней обстановке, рядом с предметами, которые постоянно находились перед глазами художника (илл. 18). Эти картины писались преимущественно с натуры или по воспоминаниям. Впрочем, и в этих картинах Матисс во многом опирался на предшественников, начиная с голландских жанристов XVII века и кончая импрессионистами.
Эти два рода тем довольно различны по своему характеру и значению. Но они не были отделены друг от друга непреодолимой преградой. Художник часто переносил свой опыт из одного рода картин в картины другого рода. Нередко он даже стремился наполнить картины обоих родов одним содержанием, то есть приблизить воображаемое к реальному и, с другой стороны, обогатить реальное плодами воображения.
Соответственно своим общим представлениям об искусстве, он неизменно искал в каждодневности преимущественно такие мотивы, которые больше всего способны поднимать дух и радовать глаз. Матисс одевал свои модели в праздничные, нарядные костюмы или же, если так можно выразиться, изображал их в „наряде обнаженности”. В сущности, в этом не было ничего нового.
В своих галантных сценах Ватто отступал от реального быта двора времен Людовика XIV, воссоздавая на холсте воображаемый мир красоты и светскости — немного театр с его бутафорией, немного несбыточную мечту. То же самое было и в пасторальной живописи Джорджоне и у других венецианцев или в восточных темах у Делакруа и Энгра. В этом тоже сказывались мечты человечества о земном блаженстве, о невозвратно потерянном, но желанном рае.
В картинах Матисса бросается в глаза царящая в них праздничность и нарядность. Мы видим преимущественно красивую обстановку, букеты цветов, старинную мебель, дорогие ковры как обязательные атрибуты человеческого благополучия. Вместе с тем у него почти не встречается невзрачных мотивов будничной повседневности. За это Матисса упрекали в оторванности от современности, в непонимании ее противоречий и теневых сторон, как упрекали за это и Ватто и других художников этого рода. В пристрастиях Матисса нередко усматривали прямое воздействие на него вкусов богатых меценатов. Называли его художником „светским”, прилагали к имени его еще более уничижающие эпитеты.
Однако если более вдумчиво подойти к этому вопросу, то отпадут основания для многих упреков художнику. Конечно, ему нравился мир нарядных женщин и элегантной обстановки, как ему нравились и сельские идиллии с обнаженными телами на фоне зеленой листвы. Но главное, что его занимало, это возможность создания искусства, сотканного из подобных мотивов, которые входили в мир его холстов в претворенном, в снятом виде. Здесь допустимо привести одну, быть может, несколько отдаленную аналогию: русские народные мастера нередко украшали донца прялок не сценами каждодневного крестьянского труда и жизненных тягот, а изображениями светских дам и разряженных гусаров, заимствованных ими из журнальных картинок и расцвеченных красками их воображения. Нет оснований полагать, что крестьянские мастера стремились угодить своим господам. Своими красочными росписями они доставляли радость склонявшимся над прялками женщинам-труженицам.
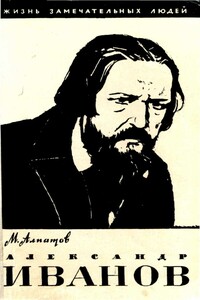
Эта книга рассказывает о трудах и днях замечательного русского художника Александра Иванова. Его жизнь не богата яркими событиями. Но она насыщена большим внутренним драматизмом. Многие годы Иванов прожил вне родины, в Италии, но душой всегда был с родной землей. Страстный искатель правды, живописец-мыслитель, психолог, раскрывающий в своих произведениях глубины душевной жизни человека, он был желанным другом передовых русских людей — Герцена, Огарева, Чернышевского. Чернышевский назвал его «одним из лучших людей, которые только украшают землю».
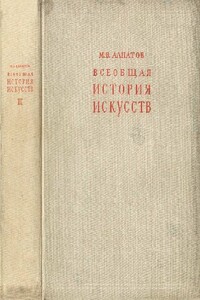
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
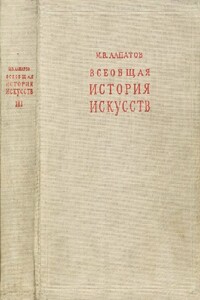
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
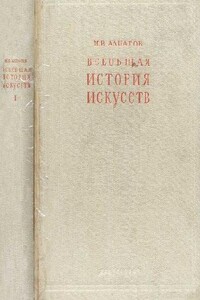
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.