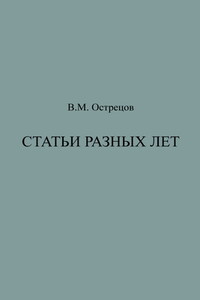Масонство, культура и русская история - [2]
Среди всех разговоров, которые велись у нас в семье и, вероятно, как-то отражались и на моих взглядах, вспоминается один эпизод. Тогда я еще учился в старших классах средней школы. Вероятно, это был 1958 год. Надо ли говорить, что вся историческая и публицистическая литература, что была у нас дома, не миновала моего интереса. И надо ли говорить, что литература эта была в духе своего времени. Это были сочинения Сталина. История КПСС, была, правда, и «История» Соловьева. Но самое пристальное мое внимание привлек двухтомник Ф. Энгельса «Военные произведения». Какие только мысли не пробуждали строки «классика». Первое, что обнаруживалось, так это отсутствие у «классика» классового подхода. В большинстве случаев Энгельс говорил совершенно «ненаучным» языком. Как простой обыватель, на глазок оценивающий события. И это меня как-то по-хорошему взбодрило. В СССР за такие сочинения, изгоняли из партии. Во-вторых, главными категориями в этих его произведениях были категории национальности. Я выяснил для себя, что Энгельс, например, был самого невысокого мнения о русских, но о царизме отзывался одобрительно, сравнивая его с австро-венгерским Двором не в пользу последнего. Не имея под рукой этот двухтомник, передаю свои впечатления тех лет. Энгельс превозносил гений Наполеона. Кто только не носился с этим гением! В пику, что называется, окружающей обстановке, и я приобрел портрет этого романтического героя «пушкинской эпохи», а в классе стал громко цитировать Энгельса. Между тем, как раз в коммунистической идеологии тех лет места Наполеону не было. Отец морщился и говорил, что, во-первых, Наполеон был завоевателем и потому его портрету не место у нас в доме. Во-вторых же, что я неправильно понял Энгельса.
Но если справляться с культом Наполеона было относительно несложно, то справляться с другими уклонами товарища Энгельса было сложнее. Например, с его оценкой царизма. Энгельс писал, что русские еще слишком варвары, и мало интересуются образованием. И поэтому, если кто-нибудь из простонародья проявит к этому какие-то способности, то русский царизм вытаскивает такую персону из толпы, одевает-обувает, учит, дает чины и потом вертит перед всей Европой, чтобы доказать, что и в России образование прививается народу. И как пример следовал Ломоносов.
Однажды, когда у нас гостил мой дядя, как и отец, военный, живший на Украине, я стал им задавать, как обычно, каверзные вопросы, а затем с наивным видом просил объяснить мне то-то и то-то. И я стал читать из Энгельса: мнение его о русских, поляках и славянах в целом. Причем, меня самого поразило одно место у Энгельса, где он пишет о том, что не пройдет и сорока лет, как немцы вторгнутся в Россию и отомстят за унижения, претерпеваемые ими от русской политики. Далее шло о необходимости растоптать немецким сапогом «нежные цветы славянской независимости». Энгельс чеканным слогом немецкого милитариста в одной из своих поздних статей отвергал все глупые басни о «дружбе народов» и утверждал, что будущее Германии и Европы должно решиться не на страницах журналов и газет, а на полях кровавых сражений немцев со славянами.
И чем больше я читал, тем задумчивее становились мои слушатели. Когда я кончил, они долго молчали. Оба. А ведь надо понять, какая гамма чувств могла их одолевать. Энгельс!.. Сам, можно сказать, верховный бог! Если бы у нас в госучреждениях не висели портреты всех «классиков», то многие в нашей стране вообще считали бы, что Маркс и Энгельс — одно лицо; вроде как одно — имя, а другое — фамилия. Замечу, шли 50-е годы. И тогда оба военных, дядя и отец, как-то в один голос тихо спросили меня: «А не кажется ли тебе, Виктор, что в данном случае Энгельс — просто шовинист? — Русофоб?».. «Да, немецкий шовинист». Надо признать, что это был один из тех случаев, когда я вполне оценил смелость и откровенность собеседников.
В 60-е годы учащаяся молодежь кипела и бурлила. Все делились на группы и группки. Наш курс в институте не был исключением. С одной стороны — молодые карьеристы, скалозубы, бегающие с доносами в деканат и в партком. С другой — мы, неоперившаяся молодежь, смотревшая на запад, как на земной рай. Надо ли говорить, что тон всему в этой среде задавали евреи, которых у нас на «потоке» было большинство абсолютное. По крайней мере, в нашей группе, совершенно типичной в этом отношении, евреев было из 12 человек семь, а из русских две девушки были замужем за евреями. В то время мы бегали смотреть импрессионистов, слушали «голоса» и рассказывали анекдоты о тупости советских чиновников. Надо признать, что и скалозубы не давали повод восторгаться своими моральными и идейными качествами. Здесь царил цинизм и карьеризм нескрываемый. Никто ни во что не верил.
Впрочем, и в нашей среде, диссидентско-студенческой, принципами не пахло. Мой однокашник С., еврей, с которым я затем работал и на Севере, после анекдотов и возмущений по поводу советской тупости, мог тут же переключиться на рассуждения о том, как бы ему попасть в комитет комсомола, чтобы получить теплое местечко по окончании института. Еврейская среда достаточно своеобразна в этом отношении. Уживаются вещи, «в одном флаконе» не совместимые, и безо всякого внутреннего конфликта. Веши, которые в русском ужиться рядом никак не могли бы, не вызвав душевной драмы.

Книга «В поисках смысла: из прошлого к настоящему» историка, доктора философских наук, профессора, строится на материалах дневников Константина Сергеевича Попова. Дневники инженера К. С. Попова – это «история снизу» или «изнутри»: в них передан дух времени через призму жизни обычной семьи. Наследие К. С. Попова развивает такую область исследований, как история и философия повседневности. Книга будет интересна как специалистам, так и тем, кто увлечен историей России начала XX века.

Монография посвящена истории развития российской газетной прессы в годы революции и гражданской войны. В ней рассматриваются вопросы, связанные с функционированием газетной периодики, деятельностью информационных агентств в России, работой цензурных органов и учреждений по распространению прессы Значительное место уделено анализу содержания российских газет окт. 1917–1920 гг. Книга предназначена для студентов исторических факультетов и факультетов журналистики вузов, преподавателей и всех тех, кто интересуется историей газетной печати России.

Чудовищные злодеяния финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР. Сборник документов и материалов. Составители: С. Сулимин, И. Трускинов, Н. Шитов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.