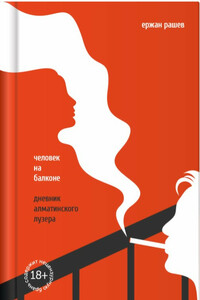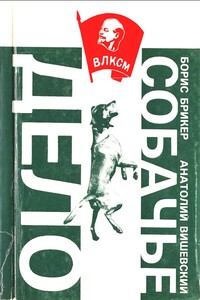, не заботясь, как это поймут; еще не успев отойти далеко, он услышал, как китайский начальник грохнул клавишами, видимо знаменуя начало разъезда.
наконец выкатился из рук, грянув о доски; Никита перешагнул его, с трудом отрывая ноги, и здесь же сел на пол, поджав колени к груди. Через несколько минут бесшумно возникший Пелым заставил его тихо вздрогнуть; распорядитель явился сказать, что неловкий Никитин уход не тревожить его, оставив цветы просто у инструмента. Еще, , Пелым договорил, что Глостер в заметном душевном расстройстве был выведен через главные двери и увезен прежде всех остальных; все случилось в молчании, близком к кладбищенскому, но никто, очевидно, не верит, что вольнокомандующий по усталости или по недосмотру мог попасть не туда. Ничему нельзя верить, промолвил Никита перегоревшим ртом, это надежней всего, а пока отпустите водителя, я вернусь домой сам. молча исчез, и Никита, не мешкая дальше, вцепился в квадратный ворот платья и с треском рванул его вниз, потянул в обе стороны на животе, выпростался по пояс, вскочил и, как из проруби, вылез из кольца лоскутьев. Освободившись, он все же решил взглянуть на цветы, чтобы как-то себя успокоить; корзин на сцене оказалось так много, что он заленился считать и разглядывать все подписи, но склонился крупнейшей, с большими кофейными розами, чтобы узнать, от кого она: на узорной картонке стоял перевернутый треугольник крайнего отдела. Никита выругался, уже почти готовый поверить в зверский розыгрыш, но так здесь никто не шутил; он выбрал для себя крохотный букет балтийских ирисов, перевязанных шоколадною лентой, и с ним отправился одеться. На столике гримерной, повторяясь в зеркалах, полулежало в ведерке шампанское, обернутое в иней, как в фольгу; обжигаясь, Никита вытащил его изо льда, подержал у темени, пока тонкая боль не впилась ему в волосы, и опустил обратно.
вышел наружу, день уже ослабел и низкое солнце текло сквозь листву, как опрокинутый мед. В парке пахло теплой пылью, горьким деревом, мокрой газетой; вечерняя свежесть еще собиралась вдали, за границами города. Муниципальные статуи, видимые в конце главной аллеи, в это время мечтательны, будто бы глубоко в море, голая белизна их спадала за солнцем, сменяясь карандашным свинцом. На пожарном дворе проступали чахлые голоса; Никита приблизился, чтобы разобрать слова, но разговор в призрачном воздухе, и он уже не поручился бы, что вообще что-то слышал. Прилегающий мир был плутоват и неверен, но, кто его сделал таким, было ; вероятно, у муниципалов даже в лучшие годы, при лучших деньгах не хватило бы выдумки, чтобы устроить все так. Это как будто толкало к неважной догадке, что, хотя те и были раз уличены в самом грязном коварстве, главная и ложь происходила не от них; парк дышал ею не оттого, что они здесь гипсовых нимф, наводивших на выгуливаемых детей, но, откуда тогда вырастал этот древний подвох, неподвластный никакой поправке, Никита не мог даже предположить. Гонимый тоской, он прогулялся к статуям, стараясь не глядеть перед собой; так узналось, что ступни скульптур исцарапаны склочными надписями с затруднительной датировкой, но ему было пусто читать это; подождав у подножий, он закрыл глаза и прошел всю дорогу обратно вслепую, нигде не запнувшись. Это ничему не помогло; от беспомощности он почти было вздумал вернуться в , чтобы забрать шампанское, но сумел устоять на пороге ДК. Еще медля, он вспомнил об униженном Центавром пианино, и ему захотелось устроить из дрезденского инструмента костер; этому же огню он скормил бы и все, к чему прикасался сегодня один. Дом стоял перед ним как чужой, в верхних окнах его проплывала