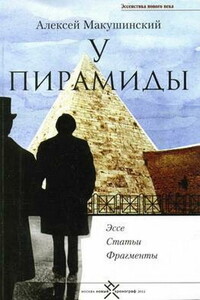Макс - [14]
— И значит, истинный герой твоей истории —?..
— Разумеется.
Она рассмеялась; мы вышли на улицу.
Были желтые листья по краям мостовых; прозрачные отсветы в тающем небе; редкие звезды над темными крышами.
— Вот здесь мы шли… идем… будем идти.
— И вон там… когда-то… когда-нибудь.
И потом мы еще долго стояли на крыльце ее, Сониного, двумя полукружиями во двор выходившего дома; и к тому времени уже очень хорошо мне знакомые, смутно белеющие тополя во дворе чуть-чуть, я помню, колебались, клонились под ветром; и невидимая, проехала по переулку машина; свет фар ее скользнул по соседней крыше, вершинам деревьев, последним листьям на ветках; и все опять стихло, стемнело; и вдруг пошел дождь; звезды исчезли; пряной прелью пахнуло откуда-то; и положив руку на перила крыльца, рядом с Сониной, я сказал ей, что — вот, теперь я могу начинать… наконец; и она улыбнулась… наверное; и было это тревожное, радостное, забытое… нет, не забытое мною ощущение — мокрой древесины под ладонями, неровной и трудной, мелких капель, навсегда остающихся на пальцах… и я еще постоял под дождем; и она выглянула, я помню, помахала мне из вдруг загоревшегося, в левом полукружье, окна; и теперь я уже действительно мог — начинать; но еще медлил, еще ждал — до весны; прождал, значит, и осень, и зиму; и только весною, решившись, уехал, наконец, в эту маленькую, за дюной притаившуюся деревушку, где я живу и теперь, один, поворачивая обратно.
И был, конечно, последний день, в Москве, там, весенний, ясный и путаный, с внезапными порывами ветра, внезапным снегом, солнцем, столь же внезапным, с легкими, быстрыми, то сверкающими, высокими, то вдруг темными, низкими, улетающими сквозь снег — и уже морскими какими-то облаками; и в этот день мы встретились с Максом у Сони; и потом, вечером, снова встретились с ним: у него; и была опять, конечно, бессонная, опять в поезде, ночь; и стук колес, и голоса в коридоре; и деревня, когда я приехал, еще просматривалась, конечно, насквозь; и последние льдины еще лежали у самого берега; последние пятна снега в тех тенистых местах, где пляж переходит в дюну; и заняв, наконец, свою, если угодно, позицию, волнуясь и радуясь, провел я самые первые, тонкие, первые линии. И вот теперь уже лето; листья; сирень; и почти жара; вдруг прохлада; и туман, и ветер, и тишь; и покончив с писанием, я вновь, как некогда, отправляюсь, на велосипеде, куда-нибудь; и каждый вечер вновь выхожу, разумеется, на море; и там, над дальним мысом, над лесом, еще горит — еще гаснет закат; сужается, стягивается, краснеет, бледнеет; и последние, тающие, розоватые отблески еще бегут по облакам, по воде; и лишь повернув обратно, всякий раз неожиданно, я вижу — море, уже померкшее, небо, уже погасшее; и как будто вхожу в сон, возвращаюсь в ночь, засыпаю.
И оно уводит меня все дальше и дальше, это медленное, не знающее остановки, каждый день прерываемое, но и каждый день возобновляемое мною движение, все дальше и дальше, куда-то, по каким-то, впервые открывающимся дорогам…
8
Был, значит, некий август, дождливый и темный — август: начало всего.
Я жил — впервые — один: в пустом доме, в опустевшем поселке. Было холодно, сыро; листья, еще не падая, желтели и вздрагивали на ветру; небо, окутанное туманом, мелким дождем, тихой моросью, опускалось все ниже и ниже, и ухватившись за крыши домов, за кроны деревьев, натягивалось, наконец, серой сплошной пеленою; земля в лесу была уже черной, влажной, вязкой.
Я жил в опустевшем поселке, один, в пустом доме: в том же доме, в том же поселке, где я жил всегда, каждое лето.
И значит (думаю я теперь…) — и значит, все было так же: тот же дом, и тот же поселок, — тот же лес, та же станция, — и те же кусты сирени в окне, и тот же забор, и те же ели, и та же дорога, чернеющая за ними.
Все было так же; но все это (знакомое мне наизусть…) — все это виделось мне — как будто впервые: и как если бы я не только не видел, ни разу, этих елей, этих кустов, но вообще ничего, никогда.
Впервые в жизни я остался один — все изменилось.
Были те же деревья, те же дороги; тот же лес, та же станция; дома и улицы; тропинки и просеки; падение капель, дрожание листьев; холод, туман.
Но что-то вдруг зазвучало оттуда; позвало и окликнуло; что-то прежде неведомое, ранее незнакомое проступило вдруг сквозь эти деревья, дома; мелкий дождь, тихую морось.
И я смотрел вокруг, удивляясь, и бродил по улицам, по лесу, сам не зная зачем, просто так.
И были, я помню, бесконечные, долгие, бесконечно-долгие вечера; ночи, уже осенние; шелест веток, отзвуки поездов… и каждое утро, проснувшись, я выходил, как сказано, из дому; и шел к станции, и в магазине у станции, если он был открыт, покупал что-нибудь к завтраку… и вот так, в какое-то, похожее, в общем, на все остальные, холодное, раннее, еще совсем тихое утро, — вот так я впервые — как будто впервые — увидел Макса, еще безымянного: медленно, совсем-совсем медленно шли мы навстречу друг другу, с каждым шагом все ближе, и казалось, нам так никогда и не встретиться, — и так же… да, так же медленно падал, я помню, один-единственный, сорвавшийся с дерева лист, мокрый, первый и желтый — так медленно, что казалось, ему вообще не долететь никогда до земли — кружился, кружился, падал, не долетал, долетел, — и он, Макс, помедлив, свернул вдруг куда-то влево, в одну из дач, и калитка, с ржавым скрипом пружины, захлопнулась, тоже помедлив, за ним.

«Пароход в Аргентину» – третий роман автора. Его действие охватывает весь 20 век и разворачивается на пространстве от Прибалтики до Аргентины. В фокусе романного повествования – история поисков. Это «роман в романе». Его герой – альтер эго автора пытается реконструировать судьбу Александра Воско, великого европейского архитектора, чья история – это как бы альтернативная, «счастливая» судьба русского человека ХХ века, среди несчастий и катастроф эпохи выполнившего свое предназначение. Это редкий случай подлинно европейского интеллектуального романа на русском языке.
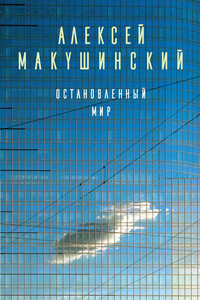
Любовь, дзен-буддизм, искусство фотографии… Четвертый роман Алексея Макушинского, продолжающий его предыдущие книги, показывает автора с неожиданной стороны. Мир останавливается – в медитации, в фотокадре – и затем опять приходит в движение. Герои не прекращают свои духовные поиски. Но приходят ли они к какому-нибудь итогу, и если да, то к какому? Полный дзен-буддистских загадок и парадоксов, этот роман сам по себе парадокс и загадка. Содержит нецензурную брань!
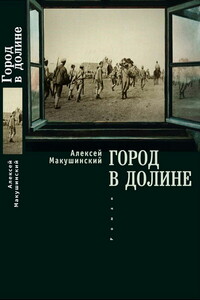
Новая книга Алексея Макушинского — роман об Истории, и прежде всего об истории двадцатого века. Судьбы наших современников отражаются в судьбах времен революции и гражданской войны, исторические катастрофы находят параллели в поломанных жизнях, трагедиях и поражениях отдельных людей. Многочисленные аллюзии, экскурсы и отступления создают стереоскопическое видение закончившейся — или еще не закончившейся? — эпохи.

В книгу живущего в Германии поэта и прозаика Алексея Макушинского вошли стихи, в основном написанные в последние годы и частично опубликованные в журналах «Арион», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Звезда», «Крещатик».Приверженность классическим русским и европейским традициям сочетается в его стихах с поисками новых путей и неожиданных решений.

Перед нами – философическая прогулка Алексея Макушинского по местам, где жили главные «герои» книги – Николай Бердяев и французский теолог Жак Маритен. Гуляя, автор проваливается в прошлое, вспоминает и цитирует поэтов, философов и художников (среди них: Лев Шестов и его ученики, Роден и Рильке, Шарль Пеги, Марина Цветаева, Альбер Камю), то и дело выныривая обратно в современность и с талантом истинного романиста подмечая все вокруг – от красных штанов попутчика до фантиков на полу кафе. Читать такую прозу – труд, вознаграждаемый ощущением удивительной полноты мира, которая, как в гомеровские времена, еще способна передаваться с помощью слов.
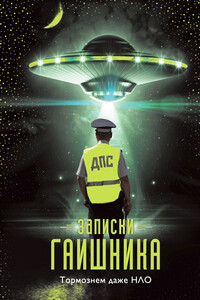
Эта книга перевернет ваше представление о людях в форме с ног на голову, расскажет о том, какие гаишники на самом деле, предложит вам отпущение грехов и, мы надеемся, научит чему-то новому.Гаишников все ненавидят. Их работа ассоциируется со взятками, обманом и подставами. Если бы вы откладывали по рублю каждый раз, когда посылаете в их адрес проклятье – вслух, сквозь зубы или про себя, – могли бы уже давно скопить себе на новую тачку.Есть отличная русская пословица, которая гласит: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива».

Чем старше становилась Аделаида, тем жизнь ей казалась всё менее безоблачной и всё менее понятной. В самом Городе, где она жила, оказывается, нормы союзного законодательства практически не учитывались, Уголовный кодекс, так сказать, был не в почёте. Скорее всего, большая часть населения о его существовании вовсе не подозревала. Зато были свои законы, обычаи, правила, оставленные, видимо, ещё Тамерланом в качестве бартера за городские руины…

О прозе можно сказать и так: есть проза, в которой герои воображённые, а есть проза, в которой герои нынешние, реальные, в реальных обстоятельствах. Если проза хорошая, те и другие герои – живые. Настолько живые, что воображённые вступают в контакт с вообразившим их автором. Казалось бы, с реально живыми героями проще. Ан нет! Их самих, со всеми их поступками, бедами, радостями и чаяниями, насморками и родинками надо загонять в рамки жанра. Только таким образом проза, условно названная нами «почти документальной», может сравниться с прозой условно «воображённой».Зачем такая длинная преамбула? А затем, что даже небольшая повесть В.Граждана «Кровавая пасть Югры» – это как раз образец той почти документальной прозы, которая не уступает воображённой.Повесть – остросюжетная в первоначальном смысле этого определения, с волками, стужей, зеками и вертухаями, с атмосферой Заполярья, с прямой речью, великолепно применяемой автором.А в большинстве рассказы Валерия Граждана, в прошлом подводника, они о тех, реально живущих \служивших\ на атомных субмаринах, боевых кораблях, где героизм – быт, а юмор – та дополнительная составляющая быта, без которой – амба!Автор этой краткой рецензии убеждён, что издание прозы Валерия Граждана весьма и весьма желательно, ибо эта проза по сути попытка стереть модные экивоки с понятия «патриотизм», попытка помочь россиянам полнее осознать себя здоровой, героической и весёлой нацией.Виталий Масюков – член Союза писателей России.

Роман о ЛЮБВИ, но не любовный роман. Он о Любви к Отчизне, о Любви к Богу и, конечно же, о Любви к Женщине, без которой ни Родину, ни Бога Любить по-настоящему невозможно. Это также повествование о ВЕРЕ – об осуществлении ожидаемого и утверждении в реальности невидимого, непознаваемого. О вере в силу русского духа, в Русского человека. Жанр произведения можно было бы отнести к социальной фантастике. Хотя ничего фантастичного, нереального, не способного произойти в действительности, в нём нет. Скорее это фантазийная, даже несколько авантюрная реальность, не вопрошающая в недоумении – было или не было, но утверждающая положительно – а ведь могло бы быть.
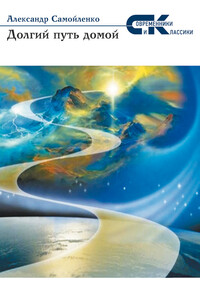
Если вам кто-то скажет, что не в деньгах счастье, немедленно смотрите ему в глаза. взгляд у сказавшего обязательно станет задумчивый, туманный такой… Это он о деньгах задумается. и правильно сделает. как можно это утверждать, если денег у тебя никогда не было? не говоря уже о том, что счастье без денег – это вообще что-то такое… непонятное. Герой нашей повести, потеряв всех и всё, одинокий и нищий, нечаянно стал обладателем двух миллионов евро. и – понеслось, провались они пропадом, эти деньги. как всё было – читайте повесть.

Рут живет одна в домике у моря, ее взрослые сыновья давно разъехались. Но однажды у нее на пороге появляется решительная незнакомка, будто принесенная самой стихией. Фрида утверждает, что пришла позаботиться о Рут, дать ей то, чего она лишена. Рут впускает ее в дом. Каждую ночь Рут слышит, как вокруг дома бродит тигр. Она знает, что джунгли далеко, и все равно каждую ночь слышит тигра. Почему ей с такой остротой вспоминается детство на Фиджи? Может ли она доверять Фриде, занимающей все больше места в ее жизни? И может ли доверять себе? Впервые на русском.