Макаровичи - [72]
- И страху нет... Я понял. И буду ли жить, или нет, я уж сильный теперь. Ведь, правда, Виктор: жизни и смерти отдельно нет?
Виктор, дивясь и вспоминая забытое что-то свое, сказал голосом зазвеневшим:
- Конечно, нет. Одно сквозь другое видится. А вселенная – жизнь и смерть - нераздельна.
- Ты это в творчестве нашел. И давно. А я вчера... нет, не вчера... не помню... недавно. И не в творчестве... а вот в этом.
- Я, Антон, в творчестве ничего не нашел. Душа плачет, душа кричит - тогда творчество. А плач да крик - это разве «нашел»? «Нашел» это уж дважды-два. А творчество и дважды-два - враги. Творчество - это мука сомнения. Правда, некоторые умеют иначе.
Захмурилось, но вдруг посветлело лицо Антона.
- Да, да! Понимаю. Но это как лестница. Великое сомнение, мука крестная на мгновение ли, на годы ли, и создал. И вот ступень. И еще. Потом еще. А наверху - «нашел».
Старший брат засмеялся ребячьим смехом.
- Найду и сяду на последней ступеньке. И ручки сложу, и замолчу. А то можно... Только скучно это...
- Что можно?
- Клич кликнуть. Приходите, мол. Нашел, и поучать хочу со ступеньки. Только творчеством живя, любя его превыше меры, этого, пожалуй, не сделать. Впрочем, стариком не был...
- Виктор, я тебя спросить хотел. Ах, опять забыл... Подожди, подожди...
Заволновался очень. Рукою руку сжимал свою. Пальцы хрустнули. Бормотал:
- Это, что ли? Ну, да. Кажется, это. Я про Доримедонта.. Ты по письму? Ты за этим приехал разве? Яша говорит...
- Ха-ха! Это пошантажировать родственников? Следовало бы. Только я-то, пожалуй, Яшеньке бесполезен окажусь. Я - как-то уже так вышло - о больших деньгах давно не думаю. А пока мне на жили ще хватает. И на краски. Ну и на коньяк. Впрочем, нужно Юлию спросить. У меня Юлия... А Яшенька сдрейфил. Ему бы самому. Он о том только и думает. Видно, хотя подчас таится. А если уж дума гвоздем, это сила. Он мне про гостиницу и про разное. Ну и переехал бы сам в гостиницу. С теми, с родственничками, только Яше и драться. У тех по гвоздю в голове, ну и у Яшеньки гвоздь... Да! Можно адвокатов, говорит. Да где мне с ними возиться! А если Яшеньке для комплекта мое имя нужно, пожалуйста. У тебя есть бумага? Давай, сейчас на полсотни листов распишусь с полным званием. А вы тут вписывайте, что нужно. И по судам. Хоть до парламента доведите... То есть не то. Парламента у вас еще нет. Ну, да вот революция будет...
Слушая, тихим смехом смеялся Антон; смехом радостным. Вдруг серьезен стал. И заспешил.
- Постой! Постой! Вспомнил. Не то совсем спросить хотел. А это так только. Вспомнил! Слушай! Можно убить? Может человек убить? Что убить, кого убить - все равно. Другого, себя... но убить. Лишить жизни. Академический вопрос. Может человек разрешить себе, сказать: это право мое?
Чуть побледнел Виктор. И встал, и заходил по комнате, может быть, для того, чтоб лица его не видели. Но недолго. Стоял уже у кровати. И улыбчивыми глазами на Антона и на Дорочку глядя, говорил:
- Право? Право мы оставим. История, география, закон Божий, все, кроме чистописания, учат нас, что право - это временно, что право - это мода. На каких-то там островах старух подушками душат. И старухи сами обижаются, если их не хотят душить вовремя. В Европе дуэль, война, казнь по суду, ну, еще французская эта глупость: «Убей ее», ну, в Америке суд Линча - все это что доказывает? А то, что органически человек совсем не прочь убить. И очень это ему всегда хочется. И достаточно самой прозрачной лжи, укрывшись за которую, он уж об этих самых угрызениях совести не беспокоится. Вывод ясен. А, между прочим, ясно и то, что право тут не причем... Что большинству людей очень нужно в известную эпоху, то тотчас становится правом. И дело в шляпе. Но общество, толпа, по существу своему - хам и вся аргументация их хамская. История как фон хороша и неизбежна. Как фон. Ну и общество тоже. К философии улицы, к хамской философии прислушиваться не резон. Так, гудит, и пусть гудит. Иногда красиво даже. Пусть там, в толпе, и убивают. И всегда убивать будут. Потому - стадный инстинкт. Но человек, кроме того, что скот, он еще в потенции своей гений. Гений же созидает. И чем чище выкристаллизовалась в нем гениальность, тем за труднейшие дела берется. Как бы инстинктивно знает, что без него не сделают. Кой черт было бы, если бы Микеланджело плетни вкруг огородов ставил. И без него поставят. А убивание это самое и того проще. Плетень хоть кому-нибудь плесть придется. А убить человека и природа может. Что и делает великолепно. Сфинкс в пустыне сам собой не вырастет, поэма сама не напишется. Ну, и твори, строй, пиши. А убивать... Фи. Подожди несколько лет и само собой сделается. Да разве подобает сколько-нибудь не маленькому человеку делать то, что и без него сделается! Нет...
Не договорил. Повернулся быстро. К окну подошел. Смотрел в далекое, в белеющее. Низкий берег Волги виден был. Церковки редкие, на белом белые. Смотрел. И много раз чуть поворачивался к тем двум. Чуть. Будто вздрагивал. Хотел сказать еще, но в даль глядел заволжскую. И чувствовал, что смотрят на него четыре глаза.
Когда от окна отвернулся, увидел: Дорочка под потолок на голубя золоченого глядит. Но тотчас взоры их - волна с волной - слились. Быстро к Антону подошел, руку ему протянув.
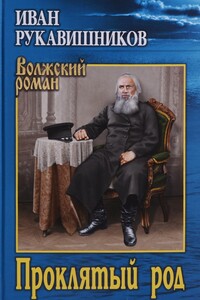
Роман-трилогия Ивана Сергеевича Рукавишникова (1877—1930) — это история трех поколений нижегородского купеческого рода, из которого вышел и сам автор. На рубежеXIX—XX веков крупный торгово-промышленный капитал России заявил о себе во весь голос, и казалось, что ему принадлежит будущее. Поэтому изображенные в романе «денежные тузы» со всеми их стремлениями, страстями, слабостями, традициями, мечтами и по сей день вызывают немалый интерес. Роман практически не издавался в советское время. В связи с гонениями на литературу, выходящую за рамки соцреализма, его изъяли из библиотек, но интерес к нему не ослабевал.

Рукавишников И. С.Проклятый род: Роман. — Нижний Новгород: издательство «Нижегородская ярмарка» совместно с издательством «Покровка», 1999. — 624 с., илл. (художник М.Бржезинская).Иван Сергеевич Рукавишников (1877-1930), — потомок известной нижегородской купеческой династии. Он не стал продолжателем фамильного дела, а был заметным литератором — писал стихи и прозу. Ко времени выхода данной книги его имя было прочно забыто, а основное его творение — роман «Проклятый род» — стало не просто библиографической редкостью, а неким мифом.

Рукавишников И. С.Проклятый род: Роман. — Нижний Новгород: издательство «Нижегородская ярмарка» совместно с издательством «Покровка», 1999. — 624 с., илл. (художник М.Бржезинская).Иван Сергеевич Рукавишников (1877-1930), — потомок известной нижегородской купеческой династии. Он не стал продолжателем фамильного дела, а был заметным литератором — писал стихи и прозу. Ко времени выхода данной книги его имя было прочно забыто, а основное его творение — роман «Проклятый род» — стало не просто библиографической редкостью, а неким мифом.

Из книги: Алексей Толстой «Собрание сочинений в 10 томах. Том 4» (Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1958 г.)Комментарии Ю. Крестинского.

Немирович-Данченко Василий Иванович — известный писатель, сын малоросса и армянки. Родился в 1848 г.; детство провел в походной обстановке в Дагестане и Грузии; учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. В конце 1860-х и начале 1870-х годов жил на побережье Белого моря и Ледовитого океана, которое описал в ряде талантливых очерков, появившихся в «Отечественных Записках» и «Вестнике Европы» и вышедших затем отдельными изданиями («За Северным полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и лапландцы», «На просторе»)

Статья Лескова представляет интерес в нескольких отношениях. Прежде всего, это – одно из первых по времени свидетельств увлечения писателя Прологами как художественным материалом. Вместе с тем в статье этой писатель, также едва ли не впервые, открыто заявляет о полном своем сочувствии Л. Н. Толстому в его этико-философских и религиозных исканиях, о своем согласии с ним, в частности по вопросу о «направлении» его «простонародных рассказов», отнюдь не «вредном», как заявляла реакционная, ортодоксально-православная критика, но основанном на сочинениях, издавна принятых христианской церковью.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том трехтомного издания прозы и эссеистики М.А. Кузмина вошли повести и рассказы 1906–1912 гг.: «Крылья», «Приключения Эме Лебефа», «Картонный домик», «Путешествие сера Джона Фирфакса…», «Высокое искусство», «Нечаянный провиант», «Опасный страж», «Мечтатели».Издание предназначается для самого широкого круга читателей, интересующихся русской литературой Серебряного века.К сожалению, часть произведений в файле отсутствует.http://ruslit.traumlibrary.net.
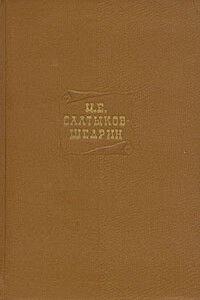
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника».

Каждый выживших потом будет называть своё количество атаковавших конвой стремительных серых теней: одни будут говорить о семи кораблях, другие о десяти, а некоторые насчитают вообще два десятка. Как известно: "У страха глаза велики". Более опытные будут добавлять, что это были необычные пираты - уж очень дисциплинировано и организовано вели себя нападавшие, а корабли были как на подбор: однотипные, быстроходные корветы и яхты.

Наш современник попал в другой мир, в тело молодого графа. Мир магии, пара, пороха и электричества, а ещё это мир дирижаблей — воздушных левиафанов. Очередной раз извиняюсь за ошибки. Кому мало моих извинений недостаточно, то считайте, что я художник, я так вижу!