Любовник Большой Медведицы - [36]
Есть у нас и бандит Иван Лобов. Сидит за разбои. С виду — пристойный мужчина лет тридцати пяти, с черной бородкой клинышком. Все время улыбается, блаженненько так, словно богомаз владимирский. Давно бы его пустили в расход, но хлопочут о нем зажиточные родственники.
Есть и телеграфный техник Фелициан Кропка. Сидит за саботаж, потому что закоротил нечаянно реостат, тот сгорел. Пострадал Кропка от комиссара, о ком часто рассказывал. Тот давно имел на него зуб, а тут не упустил возможности, сдал чекистам. Кропка выглядит совсем запуганным. Дрожит всякий раз, когда двери открываются. Смешной он: малый, щуплый, все время ладошки потирает, а когда слушает, открывает рот.
Есть у нас и контрреволюционер, бывший царский офицер Александр Квалиньский, служивший в каком-то советском учреждении, а теперь угодивший в тюрьму. Он высокий, смугловатый, лет сорока. Молчун. Лицо бледное, измученное. Почти всегда лежит на нарах, но не спит, а часами смотрит в потолок. Квалиньский мне симпатичнее всех. Жаль мне, что такой интеллигентный, воспитанный и, как я убедился, очень добрый человек в таком унижении вместе с нами.
Есть и жид. Толстый, грубый, за пятьдесят ему. По фамилии Кобер, по имени Гирш. Перед войной был фабрикантом игральных карт, а теперь сидит за спекуляцию. Ему лучше всех в камере — почти каждый день носят ему с воли обеды. Его часто вызывают на допросы. Говорит, мол, снова доить будут, вымогатели.
Одиннадцатый в нашей камере — безумец. Все: и мы, и чекисты, и солдаты — называют его Бзик. Никто ни имени его не знает, ни фамилии. Арестовали его в поезде близ Слуцка. Он молодой, высокий, худощавый, с большими, удивительно светлыми глазами. Все время ходит по камере, то и дело смеясь. Нас это очень злит. Задержали его по подозрению в шпионаже. А теперь почти и не трогают. То ли забыли про него, то ли решили взять «измором».
Дни ползут нудные, тоскливые, долгие. Давит нас теснота, мучит голод. Голод царит. Мы грезим о еде, все мысли только про еду. Движения наши вялые, медленные. Голод выбелил наши лица, оттенил желтизной и зеленью, положил черные тени под глазами. У некоторых опухли руки и ноги. И у меня начали ноги пухнуть. А еще напасть, от какой спасу нет, — вши. Огромные тюремные вши, ленивые и сонные, как и мы. Но не с голодухи — скорей, с перекорму. Пасутся на наших телах. Множество их. Ползают по одежде, по нарам. Не давим их. Бесполезно. Вместо сотни побитых приползает тысяча. Зовем их ласково: «ползучее серебришко». От непрестанных расчесов на коже раны. А там, где хуже всего грызут — на плечах, на лопатках и шее, где кожа тоньше, — уже струпья.
Ночью, когда зажигается лампа и мы укладываемся спать на голые нары, из щелей выползают клопы. Жрут бешено. От них тело паршой покрывается. Новым арестантам от них житья нет.
Однажды проснулся я ночью, глаза открыл и вижу: Бзик сидит в углу камеры и странно как-то смотрит на спящих сокамерников. Я сделал вид, что сплю, а лицо мое как раз в тени было, можно подсматривать из-под полуприкрытых век. Бзик долго и внимательно рассматривал нас. Был он без рубахи — та лежала у него на коленях. Вдруг голову наклонил и, не переставая приглядывать за нами, зубами разорвал воротник. «Ого!» — думаю. Вынул оттуда кусочек тонкого полотна. То и дело поглядывая на нас, развернул. Я заметил: там написано что-то. Бзик принялся читать, затем — драть полотно зубами. За несколько минут порвал в нитки, да и кинул их в парашу. И пошел на свое место.
Наверное, важное прятал. А мы его считали двинутым. Он, видать, куда нас умнее. Той ночью мне так и не заснулось. Голод кишки крутил. Думал, до каких пор еще такое, долго ли.
В сны мои, навеянные голодом, неизменно являлась еда. Виделись не изысканные кушанья, а огромные боханы хлеба, кусищи сала и мяса, миски горячего супа, горшки парящей вареной бульбы. Просыпался больной, ошалелый и еще сильней мучился голодом, еще горше переживал свое несчастье.
Шили сперва шпионаж. Арестовавшие представили меня шпионом. Дело мое вел судебный следователь Стефан Недбальский, поляк, родом из местечка Мир неподалеку от Столбцов. Толстощекий хлыщик, в темно-синей гимнастерке, в штанах галифе. Показался мне он глупым и самодовольным. Вызывал по ночам, допрашивал часами. Схитрить старался, заковыристо спросить, чтобы подловить арестанта, но хитрости его чаще всего помогали не ему, а арестанту разобраться в ситуации. Повторял и повторял:
— Говори, ну! Говори всю правду, а то ведь сами узнаем, все узнаем!
— Что ж мне еще говорить? Я правду говорю. Вы ж не хотите, чтобы я врал вам? — так я ему обычно отвечал.
Несколько раз очные ставки мне устраивал с арестантами. Некоторых я уже знал — сидели рядом в камерах первого или второго отделов. Потом вовсе перестали допрашивать. Тогда я по совету братьев Сплондзеновых позвал караульного начальника (карнача) и попросил, чтобы проводил меня к следователю Стефану Недбальскому по очень важному делу. Вечером следующего дня за мной пришли. Под конвоем двух красноармейцев привели меня к нему в кабинет.
— Ну, что, надумался? — спросил Недбальский.
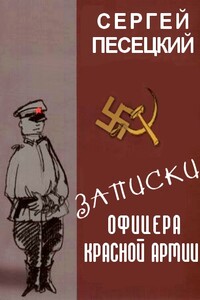
Роман «Записки офицера Красной Армии» — это альтернативный советскому и современному официальному взгляд на события в Западной Беларуси. В гротескной форме в жанре сатиры автор от имени младшего офицера-красноармейца описывает события с момента пересечения советско-польской границы 17 сентября 1939 года до начала зачисток НКВД на Виленщине в 1945 году.