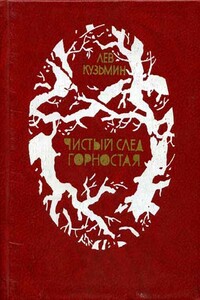Любовь Николаевна - [4]
И телята рядом с коровами были очень добрые, и пастух, который сидел на карей лошадке верхом, был тоже очень добрый. Он столбиком привстал в стременах и помахал Любаше.
И тут Любаша сразу подумала, что она, летящая на мотоцикле, наверное, выглядит со стороны совсем как настоящий, поспешающий на работу рабочий человек, и смело подняла руку, ответила пастуху. А потом догадалась: «Это не мне он машет, а машет Ивану Романычу. Но и всё равно это всё очень и очень чудесно, потому что это ведь из-за Ивана Романыча мне так сегодня хорошо, и там, в поле, мы с бабушкой обязательно для него постараемся».
А бабушка по сторонам даже и не смотрела. Она прижимала к себе одной рукой корзину, другой ухватилась за борт коляски и так вся и пригнулась к ветровому стеклу. Платок у бабушки сбился, кофта надулась пузырём. Испуганной бабушке, наверное, казалось, что ветер вот-вот выхватит её из коляски и унесёт, как пушинку, неведомо куда. Но мало-помалу мотоцикл сбавил ход, нырнул по пыльной колее в лес, а потом выскочил из-под тёмных елей на солнце, и от света и простора у Любаши зарябило в глазах.
Здесь небо синело ещё ярче, а вокруг, куда ни глянь, золотилась рожь.
Комбайны здесь работали уже вовсю. Их было три. Огромные, грохочущие, бурые от пыли, они ползли прямо на зыбкую стену хлебов. И высокая рожь покорно огибалась им навстречу, падала на широкие жатки, и там, где комбайны прошли, поле становилось колючим и ровным, словно подстриженным под машинку. Лишь копны соломы почти до горизонта светло желтели на нём.
Иван Романыч сбросил газ, и мотоцикл покатился совсем тихо. Но если бы мотор и трещал изо всех сил, то в грохоте комбайнов его было бы не слышно. Там всё гремело, звенело, вертелось, лязгало. Тучей летела сухая полова, пыль; а над всем этим грохотом, звоном и верчением высоко лепились на узких площадках комбайнеры; и Любаше было непонятно, как это каждый из них управляется в одиночку с таким шумным и огромным чудищем.
Но комбайнеры управлялись отлично. А когда мотоцикл и первый комбайн поравнялись, то Иван Романыч поднял руку, весело взмахнул ладонью, а потом показал на бабушку. «Привет, мол, привет, — как бы сказал он комбайнеру, — смотри, кого я сюда к вам привёз!»
Чёрный, весь обгорелый на солнце комбайнер со штурвала рук не снял, но вовсю засверкал улыбкой и глубоко с высокой площадки поклонился бабушке.
Бабушка приосанилась, тоже хотела поклониться, да кланяться в коляске было некуда: на коленях, чуть ли не упираясь в бабушкин подбородок, стояла высокая корзина. А навстречу двигался уже второй комбайн, и опять Иван Романыч взмахнул рукой, и опять, как бы чуточку хвастаясь, показал на бабушку.
«Ну и ну! — улыбнулась Любаша. — Бабушку-то мою как встречают. Даже завидно. Меня бы вот так! Но ничего, ничего, придёт и моё время».
И только Любаша так подумала, как от самого дальнего, от третьего комбайна к дороге помчалась грузовая, полная зерна машина. Она лихо перескочила дорожный кювет, тяжёлый кузов подбросило, зерно плеснулось через борт на землю, и бригадир в седле мотоцикла даже привстал:
— Э-эх!
— Господи! Что делает, супостат! — охнула бабушка, а Иван Романыч сердито крутнул руль, поставил мотоцикл поперёк дороги.
Машина остановилась. Из кабины остолбенело смотрел на Ивана Романыча молоденький шофёр. У него там, в кабине, на тоненькой цепочке покачивался игрушечный утёнок с круглыми, удивлёнными глазами, и у шофёра глаза были точно такие же — очень удивлённые.
Шофёр распахнул дверцу, выскочил:
— Чё такое, чё? Стряслось чё-нибудь?
— Стряслось, — ответил Иван Романыч. Он весь так и насупился, напружинился, и Любаша загодя пригнулась: «Сейчас как закричит!»
Но Иван Романыч не закричал, а только шумно, всей грудью вдохнул воздух, шумно выдохнул и взял этак бережно, двумя пальцами шофёра за кармашек расписной рубахи.
— Случилось, Петенька-дитятко, случилось… Ты скажи, хлеб в магазине буханками берёшь?
— А чё? Буханками! Как день, так три буханки… Семья у нас великущая, мнут — будь здоров. А чё?
— «Ничё», милый! Пока «ничё»… В магазине буханки считать умеешь, теперь пойдём считать на дороге.
— На какой дороге? Я тороплюсь! — попробовал освободить рубаху шофёр, но Иван Романыч рубаху не выпустил, а прямо так, за кармашек, и повёл Петеньку к тому месту, где расплеснулось по траве янтарное зерно.
— Любуйся, милок, считай буханки. Да пока не твои собственные, а пока, ясно-понятно, государственные.
Шофёр почесал кудрявый затылок, развёл руками:
— Ну-у, Иван Романыч! Ты из-за этого? А я-то думал, беда… Ну, газанул! Ну, просыпал малость! Так ведь спешка. Сам знаешь, где пироги едят, там и крошки летят.
Петенька, похоже, совсем успокоился. Он даже подмигнул бригадиру.
— А в общем, я ещё молодой! А в общем, я ещё исправлюсь! Дай дорогу, мне ехать надо.
И тут Иван Романыч опять прежним тихим голосом, но только медленно, очень медленно, чуть не по слогам сказал:
— Нет, не по-е-дешь. Сначала подберёшь «кро-шеч-ки».
— Так лопаты нет, — улыбнулся было Петенька. — Нету! Нечем собирать.
Он показал пустые ладони, весело глянул на Ивана Романыча, да тут же и осёкся:
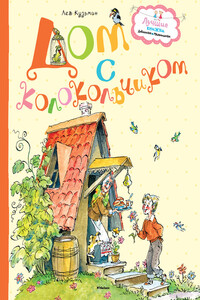
Лев Иванович Кузьмин (1928–2000) известен своими произведениями для детей всех возрастов. Есть у него рассказы для младших школьников, есть повести для школьников постарше, а есть произведения для совсем маленьких читателей – весёлые, озорные стихи и добрые, удивительно тёплые рассказы. Писатель обладал прекрасным художественным слогом, умел о самом простом рассказать ярко, образно, увлекательно. А сколько фантазии, выдумки в его стихах, какой простор для воображения!Книгу «Дом с колокольчиком», в которую вошли замечательные стихи и рассказы Льва Кузьмина, просто необходимо прочитать детям.

«Золотые острова» — новый сборник прозы известного в стране детского писателя Льва Кузьмина. Основные темы сборника — первая чистая детская любовь друг к другу, мир детский и мир взрослый в их непростых связях, труд и народные праздники на земле-кормилице, а также увлекательные приключения тех, кого мы называем «братьями нашими меньшими».

Герои этой повести-сказки отправляются в увлекательное путешествие. Много приключений ожидает их в дальних странствиях. А в конце своего путешествия по волшебному Серебряному Меридиану они попадут в Самую Лучшую Страну… А что это за страна - вы узнаете, когда прочтёте книгу.Иллюстрации Светланы Петровны Можаевой.