Любка - [7]
— Спи, спи, дурачок, блондинчик, — прошептал густой голос.
И Петька испытал сильнейшее желание принадлежать этой силе, этому шепоту, этому терпкому мужскому запаху…
Михаил Петрович обучил Петьку орудовать немудреной аппаратурой, как он торжественно называл софиты и простыни. Петька должен был налаживать свет, усаживать клиентов и даже «наводить фокус». Но большую часть времени он проводил в проявочной. Освещенный адским, красным светом, словно загипнотизированный, смотрел он в прозрачно-черную глубину ванны, где совершалось волшебство: на белой бумаге появлялось бледное, быстро темневшее изображение. Оно выплывало из водных глубин, становилось объемным, оживало, улыбалось или хмурилось, становясь частью Петькиного мира. И он стал жить в этом мире глаз, губ, щек, морщин. Стал придумывать для них истории, сентиментальные, душещипательные. Отогретый, откормившийся, Петька оказался сочинителем и фантазером, занимавшим своими историями Михаила Петровича, который быстро привык к Петькиной говорливости и терпеливо отвечал на его расспросы о Питере, о войне. Вечерами Михаил Петрович обучал Петьку грамоте и счету.
— Без грамоты ты, Петька, нуль, не человек, — говаривал он, слушая, как Петька бубнит по складам очередной урок. У Михаила Петровича была только одна книжка, которая и служила Петьке азбукой: большой, потрепанный, без многих страниц, первый том толстовской «Войны и мира» с ятями и твердыми знаками, в золотом тисненом переплете. Книжка так интересовала Петьку, что он часто, не дожидаясь следующего урока, пытался читать по складам сам, и удивлял Михаила Петровича смышленостью и быстротой ума.
— А тьі умный, Петька, — говорил с некоторым удивлением Михаил Петрович.
Мишка-фотограф, хоть и был заметным лицом в городе, но жил тихо, неприметно. И, что более всего удивляло Петьку, не интересовался женщинами. Петькины подспудные, невысказанные желания толкали его на притворно наивные, но с явным умыслом вопросы:
— И чего ты такой здоровый, — спрашивал Петька, — а не е… ся? Мне бы твои стати, я бы ух как…
Морща в улыбке губы, Михаил Петрович отвечал:
— Да я-то столько их видел, что от одного запаха теперь мутит, а вот ты на удивление — молодой, прыткий, а насчет женского пола — слаб. С чего бы это, Петька?
Петька, пойманный прямым вопросом, живо уходил от ответа:
— Я в этом деле — зеленый, а вы не обучили.
Или отмалчивался, пристально глядя в глаза Михаилу Петровичу, но правду, вертевшуюся на языке, вымолвить боялся. В бане Мишка-фотограф шлепал Петьку по отъевшемуся заду и приговаривал, как бы шутя:
— И зачем мне баба, когда тут такая Любовь Петровна вертится!
Петька только довольно похмыкивал.
Клиенты быстро привыкли и более того полюбили остроглазого и быстрого на затейливые присказки паренька. Девицы являлись в фотографию расфранченными, с вышитыми платками на плечах, в белых чулках и лакированных туфлях. Толстые, туго заплетенные косы украшали и без того налитые груди. Девицы долго перешептывались и прихорашивались в специальном закутке и затем выплывали оттуда напряженно серьезные, сияя наведенным свеклой румянцем. Петька обожал усаживать их перед камерой. И откуда у деревенского парнишки взялась эта кокетливая щепотная манера? Он принимал вычурные «дамские» позы, которые подглядел в старом модном журнале, прихваченном Михаилом Петровичем из Питера.
— А таперича мы вас изобразим, когда вы своему суженому уже в любви не откажете!
Или другая его любимая присказка:
— Мы вас как Сарру Бернару зафиксируем, когда вы вся печальная и нежная дружка ожидаете.
Он опирал голову о томно сложенную лодочкой ладонь и замирал перед оторопевшей девицей, с трудом понимавшей все эти словесности, однако, всем своим видом выражавшей испуганное благоговение перед бездной образованности и хороших манер.
— А ну, молодой и красивый, — грудь колесом, и руку за лацкан вставьте. Усы у вас, между прочим, сильно топорщатся, а я их маслицем смажу, так что они на фотке, как глянцевые выйдут.
Словом, клиенты любили ходить к «Мишке и Петьке — фотку изобразить». Но разруха катилась тяжелым бревном по раздираемой страстями России, и дела у Мишки-фотографа шли не ахти как, несмотря на городскую популярность Петькиных галантных манер.
Однажды воскресным днем, возвратившись откуда-то изрядно навеселе, Михаил Петрович бросил Петьке, как нечто неважное:
— Приготовь все в большой комнате: свет, камеру — сейчас клиенты будут.
— Так воскресный же день, и вы (Петька по деревенскому не мог называть старшего на ты) гулять обещались.
— После, после погуляем вместе, новую фильму пойдем глядеть.
Вскоре появились клиенты плотно сбитая бабенка, одетая по-городскому, нафиксатуаренная и напудренная, и с ней усатый мужчина лет 40–45 с тяжелым подбородком и синеватыми мешками под глубоко запавшими глазами. Мужчина почему-то был с велосипедом, который он пристроил в углу фото-студии. Петька быстро разглядел, что Михаил Петрович скрывает явное смущение за приветливой суетой и весельем.
— Ну садитесь, садитесь, гости дорогие, да не рассаживайтесь, давайте дело делать!
Откуда-то выпорхнула бутылка водки, запечатанная красным сургучом.

Даже в аду ГУЛАГа можно выжить. И даже оттуда можно бежать. Но никто не спасёт, если ад внутри тебя. Опубликовано: журнал «Полдень, XXI век», октябрь 2008.
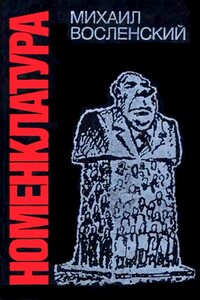
Книга принадлежит к числу тех крайне редких книг, которые, появившись, сразу же входят в сокровищницу политической мысли. Она нужна именно сегодня, благодаря своей актуальности и своим исключительным достоинствам. Её автор сам был номенклатурщиком, позже, после побега на Запад, описал, что у нас творилось в ЦК и в других органах власти: кому какие привилегии полагались, кто на чём ездил, как назначали и как снимали с должности. Прежде всего, книга ясно и логично построена. Шаг за шагом она ведет читателя по разным частям советской системы, не теряя из виду систему в целом.
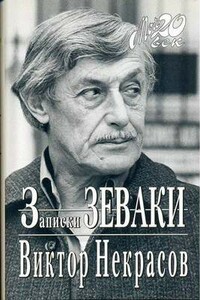
«Кому это нужно? Стране? Государству? Народу? Не слишком ли щедро разбрасываемся мы людьми, которыми должны гордиться? Стали достоянием чужих культур художник Шагал, композитор Стравинский, авиаконструктор Сикорский, писатель Набоков. С кем же мы останемся? Ведь следователи из КГБ не напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний».
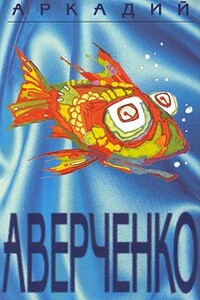
В пятый том сочинений А. Аверченко включены рассказы из сборников «Караси и щуки» (1917), «Оккультные науки» (1917), «Чудеса в решете» (1918), «Нечистая сила» (1920), «Дети» (1922), «Кипящий котел» (1922). В том также вошла повесть «Подходцев и двое других» (1917) и самая знаменитая книга эмигрантского периода творчества Аверченко «Дюжина ножей в спину революции» (1921).http://ruslit.traumlibrary.net.

Рассказы Виктора Робсмана — выполнение миссии, ответственной и суровой: не рассказывать, а показать всю жестокость, бездушность и бесчеловечность советской жизни. Пишет он не для развлечения читателя. Он выполняет высокий завет — передать, что глаза видели, а видели они много.

…я счел своим долгом рассказать, каково в действительности положение «спеца», каковы те камни преткновения, кои делают плодотворную работу «спеца» при «советских условиях» фактически невозможною, кои убивают энергию и порыв к работе даже у самых лояльных специалистов, готовых служить России во что бы то ни стало, готовых искренно примириться с существующим строем, готовых закрывать глаза на ту атмосферу невежества и тупоумия, угроз и издевательства, подозрительности и слежки, самодурства и халатности, которая их окружает и с которою им приходится ежедневно и безнадежно бороться.Живой отклик, который моя книга нашла в германской, английской и в зарубежной русской прессе, побуждает меня издать эту книгу и на русском языке, хотя для русского читателя, вероятно, многое в ней и окажется известным.Я в этой книге не намерен ни преподносить научного труда, ни делать какие-либо разоблачения или сообщать сенсационные сведения.