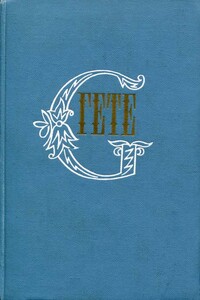Но всей этой жути противостоит в повести, вопреки замыслу, не идеальная толстовская дистиллированная «любовь», не «свет», который возник в миг смерти Ивана Ильича и озарил его душу, но противостоит смерти (вернее — естественно предшествует ей) мгновенная, теплая жизнь человека в ее лучших «непроизвольных» чертах: детство с запахом кожаного мячика и пирожками, которые пекла мама, дружба, какая была еще в Правоведении, и затем уж совсем не «толстовское»: радости любви к женщине — словом, все весеннее, сердечное, что еще могло быть упомянуто даже в таком тяжелом случае, как жизнь Ивана Ильича. Поэтому в известной мере прав В. Вересаев, который сводил объективный смысл повести к утверждению, обратному тому, которое мог иметь в виду Толстой: не «помни о смерти», а «помни о жизни».
Самый неубедительный, самый недовоплощенный эпизод повести — смерть Ивана Ильича с ее уничтожением боли и самой смерти и вспышкой света там, где была одна кошмарная тьма. Он, этот «свет», — весь от рационализма и мистики толстовской религиозной концепции духовного блага. В нем ни малости облегчения, катарсиса, после интенсивной, душевной муки предыдущих главок. Изобразить с величайшей, терзающей силой, с проникновением в тайное тайных психологии умирающего, с непоколебимой суровостью и безграничным «вылизывающим» 1 реализмом постепенное погружение человека в ужас агонии и смертельного помрачения, заставить человека вдобавок ко всему еще терзаться нравственно от слишком позднего сознания никчемности, непоправимой ошибочности своей жизни, обнажить всю жалкую физиологию болезни, разложения, оставить человека нагим, гибнущим, одиноким, заставить его извиваться и выть от муки, просунуть его в какой-то кошмарный черный мешок — сделать все это, а потом попытаться уравновесить, оправдать эту казнь мистической светотехникой, явлением некоей сверхчувственной истины — это гигантская ошибка Толстого-художника и Толстого-проповедника. Именно в этот катастрофический высший миг окончательно теряется видимость координации между «шуйцей» и «десницей» Льва Толстого. Откровение божества, любовное милосердие, просветление свыше, пришедшее к Ивану Ильичу, для читателя нисколько не спасают положения. В повести не произошло ничего такого, что оправдало или объяснило бы резкий перелом в положении умирающего. Во всяком случае, мимолетного чувства жалости и любви, которое испытал Иван Ильич перед смертью, явно недостаточно.
1 Эпитет Ромена Роллана.
Того, кто поэтом на казнь обречен,
И бог не спасет из пучины.
(Гейне)
Так называемый апофеоз передан какими-то невозмутимыми, холостыми, евангельского склада фразами. «Вместо смерти был свет… — Конечно! — сказал кто-то над ним. Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе…» и т. д. Можно сказать, перефразируя слова Чехова, что в «Смерти Ивана Ильича» в судьбе главного героя важно все, кроме того, что сам автор, по ходу вещей, должен был счесть наиважнейшим. Не важна, не убедительна мистическая трактовка «смерти — воскресения»; но зато трижды убеждает, до ответной спазмы в горле, горестная мука умирания в сознании нелепости и бессмыслицы прожитого. И конечно, остается глубочайшим критическим обобщением все то, что относится к «поэзии положения» в повести, — все окружение Ивана Ильича, предметное и одушевленное, подробности жизни самого Ивана Ильича, его взаимоотношений с себе подобными, бюрократическая атмосфера, в которой покойно и гармонично ощущал себя прокурор Головин.
Но интересно, что эпизод «просветления» в повести «Смерть Ивана Ильича», будучи совершенно неправдивым, художественно слабым и по существу своему противоречащим всему откровеннейшему и трезвому реализму произведения, все же кажется необходимым в формальном смысле — он как бы замыкает, довершает исключительную соразмерность повести, без него остался бы не брошен последний блик на художественное полотно. В этом смысле его роль та же, что роль «deus ex machina» в античных трагедиях, императрицына указа в «Недоросле» и жандарма в «Ревизоре». Дело не в том, что «порок наказан, а добродетель торжествует»; как мы показали, толстовская добродетель в данном случае именно оказалась бессильной. Но необходимо, чтобы произведение искусства было законченным, чтобы была «развязка», после которой может быть поставлена точка, — развязка хотя бы формы.
Анализ главного героя «Смерти Ивана Ильича» привел нас к исследованию всего образного содержания повести, всей ее правды и неправды, и, как можно было заметить, мы ни разу все же при этом не отходили от непосредственного объяснения и анализа одного образа. Становится видной глубочайшая сложность образа Ивана Ильича, выражение в нем всех сторон жизни (а не только двух противоречивых сторон идеологии), которые могут выразиться в гениальном художественном образе. Здесь и обличительное «воспроизведение действительности в форме жизни» (Чернышевский) — типическое лицо среднего буржуазного человека, культурного мещанина, бюрократа и эгоцентрика, долго, до рокового случая, покоившегося в плотной сети фальшивых отношений и связей; с другой стороны — это попытка создать общечеловеческий символ «дурной жизни» и «хорошего конца», вариация на тему книги «О жизни», по пессимистической символике почти «леонид-андреевщина»; в третьих — это образ, реалистически воссоздавший действительно мрачную и нелепую безвременную кончину, с непостижимой яркостью и правдивостью раскрывающий физический исход всякой жизни; наконец, это — глубоко лирический образ, отражающий реальные муки и сомнения, «арзамасский ужас», не раз настигавший Толстого в 80-е годы, и т. д.