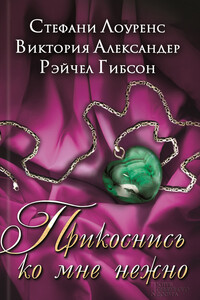– А им все нипочем! – громко сказал он, слушая долетающее со всех сторон из-за ветра, то отдаленное, то близкое, щелканье соловьев. И в ту же минуту услыхал ровный голос:
– Добрый день.
Он взглянул и оторопел: в комнате стояла она.
– Пришла обменить книгу, – сказала она с приветливым бесстрастием. – Только и радости, что книги, – прибавила она с легкой улыбкой и подошла к полкам.
Он пробормотал:
– Добрый день. Я и не слыхал, как вы вошли…
– Очень мягкие ковры, – ответила она и, обернувшись, уже длительно посмотрела на него своими неморгающими серыми глазами.
– А что вы любите читать? – спросил он, немного смелее встречая ее взгляд.
– Сейчас читаю Мопассана, Октава Мирбо…
– Ну да, это понятно. Мопассан всем женщинам нравится. У него все о любви.
– А что же может быть лучше любви?
Голос ее был скромен, глаза тихо улыбались.
– Любовь, любовь! – сказал он, вздыхая. – Бывают удивительные встречи, но… Ваше имя-отчество, сестра?
– Катерина Николаевна. А ваше?
– Зовите меня просто Павлик, – ответил он, все больше смелея.
– Вы думаете, что я вам тоже в тети гожусь?
– Дорого бы я дал иметь такую тетю! Пока я только ваш несчастный сосед.
– Неужели это несчастие?
– Я слышал вас нынче ночью. Ваша комната, оказывается, рядом с моей.
Она безразлично засмеялась:
– И я вас слышала. Нехорошо подслушивать и подсматривать.
– Как вы непозволительно красивы! – сказал он, в упор рассматривая серую пестроту ее глаз, матовую белизну ее лица и лоск темных волос под белой косынкой.
– Вы находите? И хотите не позволить мне быть такой?
– Да. Одни ваши руки могут с ума свести…
И он с веселой дерзостью схватил левой рукой ее правую руку. Она, стоя спиной к полкам, взглянула через его плечо в гостиную и не отняла руки, глядя на него со странной усмешкой, точно ожидая: ну, а дальше что? Он, не выпуская ее руки, крепко сжал ее, оттягивая книзу, правой рукой охватил ее поясницу. Она опять взглянула через его плечо и слегка откинула голову, как бы защищая лицо от поцелуя, но прижалась к нему выгнутым станом. Он, с трудом переводя дыхание, потянулся к ее полураскрытым губам и двинул ее к дивану. Она, нахмурясь, закачала головой, шепча: «Нет, нет, нельзя, лежа мы ничего не увидим и не услышим…» – и с потускневшими глазами медленно раздвинула ноги… Через минуту он упал лицом к ее плечу. Она еще постояла, стиснув зубы, потом тихо освободилась от него и стройно пошла по гостиной, громко и безразлично говоря под шум дождя:
– О, какой дождь! А наверху все окна открыты…
На другое утро он проснулся в ее постели – она повернулась в нагретом за ночь, сбитом постельном белье на спину, закинув голую руку за голову. Он открыл глаза и радостно встретил ее неморгающий взгляд, с обморочным головокружением почувствовал терпкий запах ее подмышки…
В дверь кто-то торопливо постучался.
– Кто там? – спокойно спросила она, не отстраняя его. – Это вы, Марья Ильинишна?
– Я, Катерина Николаевна.
– В чем дело?
– Позвольте войти, боюсь, кто-нибудь меня услышит, побежит и напугает генеральшу…
Когда он выскочил в свою комнату, она не спеша повернула ключ в замке.
– Его превосходительству что-то нехорошо, надо, думаю, пикюр сделать, – зашептала, входя, Марья Ильинишна. – Слава богу, генеральша еще спит, идите скорее…
Глаза Марьи Ильинишны уже круглились, как у змеи: говоря, она вдруг увидала возле кровати мужские туфли, – студент убежал босиком. И она тоже увидала туфли и глаза Марьи Ильинишны.
Перед завтраком она пошла к генеральше и сказала, что должна внезапно уехать: стала спокойно врать, что получила письмо от отца, – известие, что ее брат тяжело ранен в Маньчжурии, что отец, по своему вдовству, совсем один в таком горе…
– Ах, как я понимаю вас! – сказала генеральша, уже все знавшая от Марьи Ильинишны. – Ну что ж делать, поезжайте. Только пошлите со станции депешу доктору Кривцову, чтобы он немедленно приехал и побыл у нас, пока мы найдем другую сестру…
Потом она постучалась к студенту и сунула ему записочку: «Все пропало, я уезжаю. Старуха увидала возле кровати ваши туфли. Не поминайте лихом».
За завтраком тетя была только немного печальна, но говорила с ним как ни в чем не бывало.
– Ты слышал? Сестра уезжает к отцу, он один, брат ее страшно ранен…
– Слышал, тетя. Вот несчастье эта война, сколько горя повсюду. А что все-таки было с дядей?
– Ах, слава богу, ничего серьезного. Он ужасно мнителен. Сердце будто, но все это от желудка…
В три часа Антигону увезли на тройке на станцию. Он, не поднимая глаз, простился с ней на перроне, будто случайно выбежав, чтобы велеть оседлать лошадь. Он готов был кричать от отчаяния. Она помахала ему из коляски перчаткой, сидя уже не в косынке, а в хорошенькой шляпке.
2 октября 1940