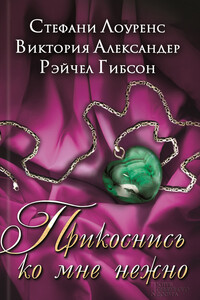Слезли, привязали жеребчика к сухому, опаленному грозой деревцу под окнами и вошли через темные сени.
В караулке было очень чисто, очень уютно и очень тесно, жарко и от солнца, светившего из-за леса в оба ее окошечка, и оттого, что была натоплена печь, – утром пекли ситники. Федосья, свекровь Аленки, чистенькая и благообразная на вид старушка, сидела за столом, спиной к солнечному, усыпанному мелкими мушками окошечку. Увидав барчука, она встала и низко поклонилась. Поздоровавшись, сели и стали закуривать.
– А где ж Трифон? – спросил староста.
– Отдыхает в клети, – сказала Федосья, – я сейчас пойду его покличу.
– Идет дело! – шепнул староста, моргнув обоими глазами, как только она вышла.
Но никакого дела Митя покуда не видел. Покуда было только нестерпимо неловко, – казалось, что Федосья уже отлично понимает, зачем они приехали. Опять мелькала ужасавшая уже третий день мысль: «Что я делаю? Я с ума схожу!» Он чувствовал себя лунатиком, покоренным чьей-то посторонней волей, все быстрее и быстрее идущим к какой-то роковой, но неотразимо влекущей пропасти. Но, стараясь иметь простой и спокойный вид, он сидел, курил, осматривал караулку. Особенно стыдно было при мысли, что сейчас войдет Трифон, мужик, как говорят, злой, умный, который сразу все поймет еще лучше Федосьи. Но вместе с тем была и другая мысль: «А где же она спит? Вот на этих нарах или в клети?» Конечно, в клети, подумал он. Летняя ночь в лесу, окошечки в клети без рамы, без стекол, и всю ночь слышен дремотный лесной шепот, а она спит…
XXIV
Трифон, войдя, тоже низко поклонился Мите, но молча, не взглянув ему в глаза. Потом сел на скамейку перед столом и сухо и неприязненно заговорил со старостой: в чем дело, зачем пожаловал? Староста поспешил сказать, что его прислала барыня, что она просит Трифона прийти посмотреть пасеку, что ихний пасечник старый, глухой дурак, а что он, Трифон, может, первый пчеловод во всей губернии по своему уму и понятию, – и немедля вытащил из одного кармана штанов бутылку водки, а из другого сало в шершавой серой бумаге, уже насквозь промаслившейся. Трифон холодно и насмешливо покосился, однако поднялся с места и достал с полки чайную чашку. Староста поднес сперва Мите, потом Трифону, потом Федосье, – она с удовольствием вытянула чашку до донышка, – и наконец налил себе. Выпив, он тотчас же стал обносить по второй, жуя ситник и раздувая ноздри.
Трифон довольно быстро захмелел, однако не потерял своей сухости и неприязненной насмешливости. Староста тяжко отупел после второй же чашки. Разговор принял по внешности характер дружеский, но глаза у обоих были недоверчивые, злобные. Федосья сидела молча, смотрела вежливо, но недовольно. Аленка не показывалась. Потеряв всякую надежду, что она придет, ясно видя, что это совершенно дурацкая мечта – рассчитывать теперь на то, что старосте удастся шепнуть ей «словечко», если бы она даже и пришла, – Митя поднялся и строго сказал, что пора ехать.
– Сейчас, сейчас, успеется! – хмуро и нагло отозвался староста. – Мне еще надо вам словечко по секрету сказать.
– Ну вот дорогой и скажешь, – сказал сдержанно, но еще строже Митя. – Едем.
Но староста хлопнул ладонью по столу и с пьяной загадочностью повторил:
– А я вам говорю, что дорóгой этого нельзя говорить! Выйдьте ко мне на минутку…
И, тяжко поднявшись с места, распахнул дверь в сенцы. Митя вышел за ним.
– Ну, в чем дело?
– Молчите! – таинственно прошептал староста, притворяя за Митей дверь и шатаясь.
– Об чем молчать?
– Молчите!
– Я тебя не понимаю.
– Молчите! Наша будет! Верное слово!
Митя оттолкнул его, вышел из сенец и остановился на пороге, не зная, что делать: подождать еще немного или уехать одному, а не то просто уйти пешком?
В десяти шагах от него стоял густой зеленый лес, уже в вечерней тени и оттого еще более свежий, чистый и прекрасный. Чистое, погожее солнце заходило за его вершины, сквозь них лучисто сыпалось его червонное золото. И вдруг гулко раздался и прокатился в глубине леса, где-то, как показалось, далеко на той стороне, за оврагами, женский певучий голос, и так призывно, так очаровательно, как звучит он только в лесу, по летней вечерней заре.
– Ay! – протяжно крикнул этот голос, видимо, забавляясь лесными откликами. – Ау!
Митя соскочил с порога и побежал по цветам и травам в лес. Лес спускался в каменистый овраг. В овраге стояла и ела баранчики Аленка. Митя надбежал над обрыв и остановился. Она снизу глянула на него удивленными глазами.
– Что ты тут делаешь? – спросил Митя негромко.
– Маруську нашу с коровой ищу. А что? – ответила она тоже негромко.
– Что ж, придешь, что ли?
– Что ж мне даром ходить? – сказала она.
– Кто ж тебе сказал, что даром? – спросил Митя уже почти шепотом. – Об этом не беспокойся.
– А когда? – спросила Аленка.
– Да завтра… Ты когда можешь?
Аленка подумала.
– Я завтра пойду к матери овцу стричь, – сказала она, помолчав, осторожно оглядывая лес на бугре за Митей. – Вечером, как стемнеет, и приду. А куда? На гумно нельзя, зайдет кто-нибудь… Хочете, в салаш в лощине у вас в саду? Только вы смотрите, не обманите, – даром я не согласна… Это вам не Москва, – сказала она, засмеявшимися глазами глядя на него снизу, – там, говорят, бабы сами плотят…