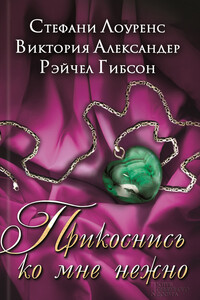Митя не отозвался и опустил глаза в книгу.
– Ты где был? – спросил он, не глядя.
– Был на почте, – сказал староста. – И, конечно, писем никаких там нету, кроме одной газетки.
– Почему же «конечно»?
– Потому что, значит, еще пишут, не дописали, – ответил староста грубо и насмешливо, обиженный тем, что Митя не поддержал его разговора. – Пожалуйте получить, – сказал он, протягивая Мите газетку, и, тронув лошадь, поехал прочь.
«Застрелюсь!» – подумал Митя твердо, глядя в книгу и ничего не видя.
XVIII
Митя и сам не мог не понимать, что нельзя и вообразить себе ничего более дикого, как это: застрелиться, раздробить себе череп, сразу оборвать биение крепкого молодого сердца, оборвать мысль и чувство, оглохнуть, ослепнуть, исчезнуть из того несказанно прекрасного мира, который только теперь впервые весь открылся перед ним, мгновенно и навеки лишиться всякого участия в той самой жизни, где Катя и наступающее лето, где небо, облака, солнце, теплый ветер, хлеба в полях, села, деревни, девки, мама, усадьба, Аня, Костя, стихи в старых журналах, а где-то там – Севастополь, Байдарские ворота, сиреневые знойные горы в сосновых и буковых лесах, ослепительно белое, душное шоссе, сады Ливадии и Алупки, раскаленный песок у сияющего моря, загорелые дети, загорелые купальщицы – и опять Катя, в белом платье, под белым зонтиком, сидящая на гальке у самых волн, слепящих своим блеском, вызывающих невольную улыбку беспричинного счастья…
Он это понимал, но что же было делать? Как и куда вырваться из того заколдованного круга, где было тем мучительнее, тем нестерпимее, чем было лучше? Именно это-то и было непосильно – то самое счастье, которым подавлял его мир и которому недоставало чего-то самого нужного.
Вот он просыпался утром, и первое, что ударяло ему в глаза, было радостное солнце, первое, что он слышал, был радостный, знакомый с детства трезвон деревенской церкви – там, за росистым, полным тени и блеска, птиц и цветов садом; радостны, милы были даже желтенькие обои на стенах, все те же, что желтели и в его детстве. Но тотчас же, восторгом и ужасом, всю душу пронзала мысль: Катя! Утреннее солнце блистало ее молодостью, свежесть сада была ее свежестью, все то веселое, игривое, что было в трезвоне колоколов, тоже играло красотой, изяществом ее образа, дедовские обои требовали, чтобы она разделила с Митей всю ту родную деревенскую старину, ту жизнь, в которой жили и умирали здесь, в этой усадьбе, в этом доме, его отцы и деды. И Митя отбрасывал прочь одеяло, вскакивал с постели в одной рубашке, с раскрытым воротом, длинноногий, худой, но все же крепкий, молодой, теплый со сна, быстро выдвигал ящик письменного стола, хватал заветную фотографическую карточку и впадал в столбняк, жадно и вопросительно глядя на нее. Вся прелесть, вся грация, все то неизъяснимое, сияющее и зовущее, что есть в девичьем, в женском, все было в этой немного змеиной головке, в ее прическе, в ее чуть вызывающем и вместе с тем невинном взоре! Но загадочно и с несокрушимым веселым безмолвием сиял этот взор – и где было взять сил перенести его, такой близкий и такой далекий, а теперь, может быть, даже и навеки чужой, открывший такое несказанное счастье жить и так бесстыдно и страшно обманувший?
В тот вечер, когда он ехал с почты через Шаховское, через эту старинную пустую усадьбу с черной еловой аллеей, он очень точно выразил своим неожиданным даже для самого себя восклицанием то крайнее изнеможение, которого он достиг. Стоя под окном почты, глядя с седла, как почтарь напрасно роется в куче газет и писем, он услыхал сзади себя шум подходящего к станции поезда, и этот шум и запах паровозного дыма потряс его счастьем воспоминания о Курском вокзале и вообще о Москве. Едучи по селу с почты, в каждой идущей впереди девке небольшого роста, в движении ее бедер он с испугом ловил что-то Катино. В поле он встретил чью-ту тройку, – в тарантасе, который шибко несла она, мелькнули две шляпки, одна девичья, и он чуть не вскрикнул: «Катя!» Белые цветы на меже мгновенно связывались с мыслью о ее белых перчатках, синие медвежьи ушки – с цветом ее вуали… А когда он, при заходящем солнце, въезжал в Шаховское, сухой и сладкий запах елей и роскошный запах жасмина дали ему такое острое чувство лета и чьей-то старинной летней жизни в этой богатой и прекрасной усадьбе, что, взглянув на красно-золотой вечерний свет в аллее, на дом, стоявший в ее глубине, в вечереющей тени, он вдруг увидел Катю, сходившую, во всем расцвете женской прелести, с балкона в сад, почти совершенно так же явственно, как видел дом и жасмин. Уже давно утерял он жизненное представление о ней, и уже являлась она ему с каждым днем все необычнее, все преображеннее, – в этот же вечер ее преображение достигло такой силы, такой торжествующей победности, что Митя ужаснулся еще более, чем в тот полдень, когда внезапно закуковала над ним кукушка.
XIX
И он перестал ездить на почту, заставил себя оборвать эти поездки отчаянным, крайним усилием воли. Перестал и сам писать. Ведь все уже было испробовано, все написано: и неистовые уверения в своей любви, такой, какой еще не бывало на земле, и унизительные мольбы о ее любви или хотя бы о «дружбе», и бессовестные выдумки, что он болен, что он пишет, лежа в постели, – с целью вызвать к себе хоть жалость, хоть какое-нибудь внимание, – и даже угрожающие намеки на то, что ему останется, кажется, одно: избавить Катю и своих «более счастливых соперников» от своего присутствия на земле. И, перестав писать и домогаться ответа, всеми силами заставляя себя не ждать ничего (а все-таки втайне надеясь, что письмо придет именно тогда, когда или обманешь судьбу, очень хорошо прикинувшись равнодушным, или когда в самом деле добьешься равнодушия), всячески стараясь не думать о Кате, всячески ища спасения от нее, он опять стал читать что под руку попадется, ездить со старостой по хозяйственным делам в соседние села и внутренне без устали твердить себе: «Все равно, пусть будет что будет!»