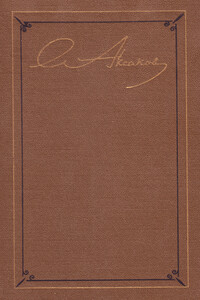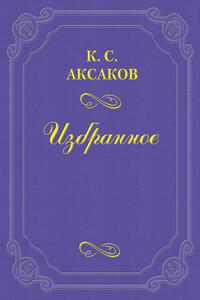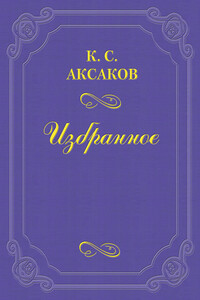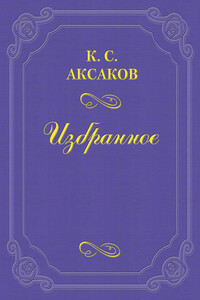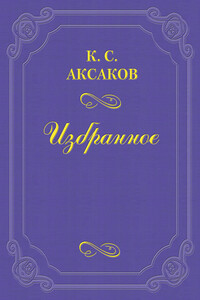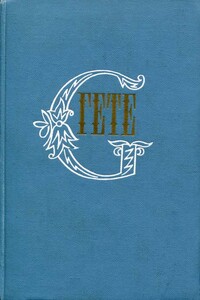Он принялся за дело свое, и дело пошло. Но Ломоносов во все время своей деятельности, и за границей и в России, ревностно принимая плоды просвещения от Запада, оставался и душою и характером и всем – русским вполне. Он скоро заметил необходимую односторонность подвига Петра и необходимое одностороннее направление – внешнюю форму и результат этого подвига. Он видел, как, во имя науки, чужеземное одолевало русское, как выписывали немцев, чтобы объяснять русским русскую историю, немцам чуждую совершенно, как во всех отношениях одолевала немецкая партия. Ломоносов видел все это; великий сын русской земли, он восстал против этой односторонности, тогда сильной, ибо она была в естественном ходе развития. Одаренный гением, он понимал настоящее значение просвещения, общечеловеческих благ; может быть, и сама сфера, в которой был он, по праву, истинным деятелем, сфера поэзии, сфера полная, становила ему это доступным. Ломоносов видел, что вместо просвещения, вместо общего, человеческого, чего он желал для России, в России составилось общество немецких ученых, со всею немецкой особенностью, – немецкий университет; и он вступил в жаркую, непримиримую борьбу с немецким направлением; здесь обнаруживался его пылкий, неукротимый характер. В то же время он излагал свои необыкновенно верные и глубокие мысли, необыкновенно ясно выраженные об устройстве Университета и вообще ученой части, и замечания на современное состояние учения в России. Видя, как выписывают из-за моря профессоров, видя немецких ученых, приехавших за деньги в Россию, не имеющих ни малейшего к ней сочувствия, нисколько не заботящихся о просвещении и вместе с тем забирающих в руки все его средства; видя, что деятельность их нисколько не переходит в обладание России и остается чуждой для нее, – Ломоносов негодовал всею душою, и в одной отметке на поле проекта Академического Регламента, им составленного, он говорит: «Дивлюсь, что и студентов из-за моря не велено выписывать»[39]. Ломоносов соединял любовь к просвещению с любовью к России и с резкою бранью нападал на немцев в России, противников своих, ведя за Россию и за ее просвещение неутомимую, ожесточенную борьбу. <…>
Таким является Ломоносов, по нашему мнению, выразивший собою великий момент в нашей литературе. Суждения о нем были ошибочны; безусловные похвалы поставили его высоко, окружили классическим блеском и скрыли настоящее достоинство и великость; с другой стороны, было бы ошибочно нападать на него и мерить мерою настоящего времени, не понимая всего его великого значения, не вникнув в смысл его гения. Ложен и страх противоречить авторитету, ложен и страх с ним соглашаться. Теперь, во время сознания нас самих, время светлое, оправдывающее все, полное жизни, – пришла, кажется, пора настоящей оценки, настоящего, справедливого взгляда для Ломоносова. Мы сказали, как мы его понимаем, как понимаем его великое значение и деятельность в нашей литературе, столь важной сфере народа. Скажем в заключение: колоссальное лицо Ломоносова, которое встречаем мы в нашей литературе, является не формальной, но живой точкой начала; вся наша деятельность, явившаяся, и являющаяся, и имеющая явиться, вся примыкает к нему, как к своему источнику; он стоит на границе двух сфер, дающий новую жизнь, вводящий в новую полную сферу. Развитие двинулось и пошло своим путем, своими односторонностями, – это уже исторический ход самого дела; но выше всего этого стоит образ Ломоносова, и как бы ни пошло развитие, он является, как давший его. Да замолкнут же все невежественные обвинения и толки, от наших дней требуется свободное признание его великого подвига и полная, искренняя, глубокая благодарность. Образ его исполински является нам, и этот исполинский образ возвышается перед нами во всем своем вечном величии, во всем могуществе и силе гения, во всей славе своего подвига, – и бесконечно будет он возвышаться, как бесконечно его великое дело.