Литературные воспоминания - [35]
„И зачем это господь бог создал баб на свете, разве только, чтоб казаков рожала баба…“ Гоголь сердито бросился ко мне с восклицанием: „Это что?“ — вырвал у меня бумажку из рук и сунул ее в письменное бюро; затем мы спокойно принялись за дело. Возвращаюсь к террасе Барберини. Более занятый своею мыслью, чем чтением, Гоголь часто опускал книжку на колени и устремлял прямо перед собой недвижный, острый взгляд, который был ему свойствен. Вообще все окружающие Гоголя чрезвычайно берегли его уединение и пароксизмы раздумья, находившие на него, как бы предчувствуя за ними ту тяжелую многосложную внутреннюю работу, о которой мы говорили. Иногда уходили мы с ним, и обыкновенно в самый полдень, под непроницаемую тень той знаменитой аллеи, которая ведет из Альбано в Кастель-Гандольфо (загородный дворец папы), известна Европе под именем альбанской галереи и утрудила на себе, не исчерпанная вполне, воображение и кисти стольких живописцев и стольких поэтов. Под этими массами зелени итальянского дуба, платана, пины и проч. Гоголь, случалось, воодушевлялся как живописец (он, как известно, сам порядочно рисовал). Раз он сказал мне: „Если бы я был художник, я бы изобрел особенного рода пейзаж. Какие деревья и ландшафты теперь пишут! Все ясно, разобрано, прочтено мастером, а зритель по складам за ним идет. Я бы сцепил дерево с деревом, перепутал ветви, выбросил свет, где никто не ожидает его, вот какие пейзажи надо писать!“ — и он сопровождал слова свои энергическими, непередаваемыми жестами. Не надо забывать, что вместе с полнотой внутренней жизни и творчества Гоголь обнаруживал в это время и признаки самонадеянности, которая высказывалась иногда в быстром замечании, иногда в гордом мимолетном слове, выдававшем тайну его мысли. Он еще тогда вполне сберегал доверенность к себе, наслаждался чувством своей силы и полагал высокие надежды на себя и на деятельность свою. О скромности и христианском смирении еще и помину не было. Так, при самом начале моего пребывания в Риме, разгуливая с ним iо отдаленным улицам его, мы коснулись неожиданно Пушкина и недавней его смерти. Я заметил, что кончина поэта сопровождалась явлением, в высшей степени отрадным и поучительным: она разбудила хладнокровный, деловой Петербург и потрясла его… Гоголь отвечал тотчас же каким-то горделивым, пророческим тоном, поразившим меня: „Что мудреного? Человека всегда можно потрясти… То ли еще будет с ним… увидите“. В самом Альбано, на одной из вечерних прогулок, кто-то сказал, что около шести часов вечера передние всех провинциальных домов в России наполняются угаром от самовара, который кипит на крыльце, и что само крыльцо представляет оживленную картину: подбежит девочка или мальчик, прильнет к трубе, осветится пламенем раздуваемых углей и скроется. Гоголь остановился на ходу, точно кто-нибудь придержал его. „Боже мой, да как же я это пропустил, — сказал он с наивным недоумением, — а вот пропустил же, пропустил, пропустил“, — говорил он, шагая вперед и как будто попрекая себя. В том же Альбано, где мы теперь находимся, вырвалось у Гоголя восклицание, запавшее мне в душу. Два обычные сопутники наши, А. А. Иванов и Ф. И. Иордан, прибыли в Альбано, похоронив бедного своего товарища. За обедом Ф. И. Иордан, сообщая несколько семейных подробностей о покойнике, заметил: „Вот он вместо невесты обручился с римской Кампанией“. — „Отчего с Кампанией?“ — сказал Гоголь. „Да неимущих иноверцев хоронят иногда здесь просто в поле“. — „Ну, — воскликнул Гоголь, — значит, надо приезжать в Рим для таких похорон“. Но он не в Риме умер, и новая цепь идей под конец жизни заслонила перед ним и образ самого города, столь любимого им некогда.
Я еще ни слова не сказал о существенном качестве Гоголя, сильно развитом в его природе и которого он тогда еще не старался подавить в себе насильственно — о юморе его. Юмор занимал в жизни Гоголя столь же важное место, как и в его созданиях: он служил ему поправкой мысли, сдерживал ее порывы и сообщал ей настоящий признак истины — меру; юмор ставил его на ту высоту, с которой можно быть судьею собственных представлений, и наконец он представлял всегда готовую поверку предметов, к которым начинали склоняться его выбор и предпочтение. Распростившись с юмором или, лучше, стараясь искусственно обуздать его, Гоголь осуждал на бездействие одного из самых бдительных стражей своей нравственной природы. В то время, которое мы описываем, он сохранял еще юмор в полной свежести, несмотря на возникающую потребность идеализации окружающего и приближающийся перелом в его жизни. Так, мы знаем, что он смотрел на господствующее сословие в папском Риме как на собрание ограниченных, малосведущих людей, склонных к материальным удовольствиям, но добродушных и мягкосердечных по натуре: лицо каждого аббата представлялось ему с житейской, вседневной стороны его и он не заботился об официальной его деятельности, где то же простодушное лицо, лакомка и болтун, вырастает в меру своих обширных прав и власти, ему данной. Так же точно мы знаем, по статье „Рим“, что Гоголь нашел место в картине и для рыжего капуцина, значение которого, помню, с жаром объяснял В. А. Панову, ссылаясь на эффект, производимый нищенствующим братом, когда он вдруг появляется в среде пестрых итальянских женщин или удалой римской молодежи. Нельзя забыть также, что даже тяжелая красная карета кардинала с пудренными лакеями назади удостоивалась в его разговорах ласкового и пояснительного слова. Все это представление предметов было бы очень далеко от истины и настоящего их достоинства, если бы не поправлялось его юмором, выводившим наружу именно ту резкую родовую черту предмета, по которой он правильнее судится, чем по соображениям и описаниям пристрастного мыслителя. Когда юмор, стесненный в своей естественной деятельности, замолк окончательно, что действительно случилось с Гоголем в последний период его развития, — критическое противодействие личному настроению ослабело само собой, и Гоголь был увлечен неудержимо и беспомощно своей мыслью…[043] Множество проявлений этого юмора заключено в самой статье о Риме; присутствие его чувствовалось тогда почти в каждом разговоре Гоголя, но собрать проблески этой способности теперь нет никакой возможности. Большая часть их изгладилась из моей памяти, оставив только общее представление о своем характере. Случалось иногда, что это был осколок целого драматического представления, как, например, рассказ Гоголя о знакомстве с кардиналом Меццофанти. Он очень любил этого кардинала-полиглота, маленького, сухощавого и живого старичка, который при первой встрече с Гоголем заговорил по-русски. Гоголь объяснял способ его выпутываться из филологических затруднений, так сказать, наглядно. Кардинал, обдумав фразу, держался за нее очень долго, выворачивая ее во все стороны, не делая шагу вперед, покуда не являлась новая придуманная фраза, и при живости старика это имело комическую сторону, передаваемую Гоголем весьма живописно. Он наклонялся немного вперед и, подражая голосу и движениям президента „Пропаганды“, начинал вертеть шляпу в руках и говорить итальянской скороговоркой: „Какая у вас прекрасная шляпа… прекрасная круглая шляпа, также и белая, и весьма удобная — это точно прекрасная, белая, круглая, удобная шляпа“ и проч. Впрочем, Гоголь отдавал справедливость удивительной способности кардинала схватывать отношения частей речи друг к другу в чуждом диалекте, а степень настоящего познания нашего языка у Меццофанти может показать следующая стихотворная записка его, буквально списанная мною с оригинала:
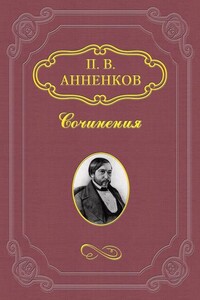
«…внешний биографический материал хотя и занял в «Материалах» свое, надлежащее место, но не стал для автора важнейшим. На первое место в общей картине, нарисованной биографом, выдвинулась внутренняя творческая биография Пушкина, воссоздание динамики его творческого процесса, путь развития и углубления его исторической и художественной мысли, картина постоянного, сложного взаимодействия между мыслью Пушкина и окружающей действительностью. Пушкин предстал в изображении Анненкова как художник-мыслитель, вся внутренняя жизнь и творческая работа которого были неотделимы от реальной жизни и событий его времени…».

Русский литературный критик, публицист, мемуарист. Первый пушкинист в литературоведении. Друг В. Белинского, знакомый К. Маркса, Бакунина, многих русских писателей (Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, А. И. Герцена и других).

«Н. Щедрин известен в литературе нашей, как писатель-беллетрист, посвятивший себя преимущественно объяснению явлений и вопросов общественного быта. Все помнят его дебюты в литературе: он открыл тогда особенный род деловой беллетристики, который сам же и довел потом до последней степени возможного ему совершенства. Его «Губернские очерки» доставили пресловутой Крутогорской губернии и городу Крутогорску такую же почетную известность, какой пользуются другие географические местности империи, существующие на картах…».

Биография А. С. Пушкина, созданная Павлом Васильевичем Анненковым (1813–1887), до сих пор считается лучшей, непревзойденной работой в пушкинистике. Встречаясь с друзьями и современниками поэта, по крупицам собирая бесценные сведения и документы, Анненков беззаветно трудился несколько лет. Этот труд принес П. В. Анненкову почетное звание первого пушкиниста России, а вышедшая из-под его пера биография и сегодня влияет, прямо или косвенно, на положение дел в науке о Пушкине. Без лукавства и домысливания, без помпезности и прикрас биограф воссоздал портрет одного из величайших деятелей русской культуры.

«И.С. Тургенев не изменил своему литературному призванию и в новом произведении, о котором собираемся говорить. Как прежде в «Рудине», «Дворянском гнезде», «Отцах и детях», так и ныне он выводит перед нами явления и характеры из современной русской жизни, важные не по одному своему психическому или поэтическому значению, но вместе и потому, что они помогают распознать место, где в данную минуту обретается наше общество…».

«…Всех более посчастливилось при этом молодому князю Болконскому, адъютанту Кутузова, страдающему пустотой жизни и семейным горем, славолюбивому и серьезному по характеру. Перед ним развивается вся быстрая и несчастная наша заграничная кампания 1805–1807 годов со всеми трагическими и поэтическими своими сторонами; да кроме того, он видит всю обстановку главнокомандующего и часть чопорного австрийского двора и гофкригсрата. К нему приходят позироваться император Франц, Кутузов, а несколько позднее – Сперанский, Аракчеев и проч., хотя портреты с них – и прибавим – чрезвычайно эффектные снимает уже сам автор…».

Эта книга – увлекательный рассказ о насыщенной, интересной жизни незаурядного человека в сложные времена застоя, катастрофы и возрождения российского государства, о его участии в исторических событиях, в культурной жизни страны, о встречах с известными людьми, о уже забываемых парадоксах быта… Но это не просто книга воспоминаний. В ней и яркие полемические рассуждения ученого по жгучим вопросам нашего бытия: причины социальных потрясений, выбор пути развития России, воспитание личности. Написанная легко, зачастую с иронией, она представляет несомненный интерес для читателей.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.