Левитан Исаак Ильич - [2]
В то время, когда Левитан находился в гуще художественной жизни, много видел, ездил за границу и в постоянной работе подымался все выше и выше, – Часовников, запершись в провинции, оставил искусство. Но утеряв веру в искусство, в свое к нему призвание – во что же верить и чем жить?
Он видит кругом насилие, греховность мира, мрак и нищету. Кто укажет спасение от них и новый путь для жизни? Умами многих владел тогда Толстой. Часовников окружает себя всем, что пишет о жизни наш Савонарола, и ищет у него решения всех вопросов и спасения для себя.
Наслушавшись о Часовникове в Москве от его товарищей, я напал на его след на юге, в Новочеркасске. Был у него на квартире. Свою комнату он и уходя не запирает, да в ней, кроме книг, почти и нет ничего. Спит на досках. Интересуется жизнью искусства, особенно московского, в питерцев не верит: у них искусство по повелению императорского двора, москвичи хоть от этого более свободны.
Много расспрашивает и говорит о Левитане, восторгается им. Но все это между прочим, это прошлое, а сейчас он буквально горит над решением вопроса: как жить, что делать, чтобы спастись от греховной жизни? А грех, преступление везде.
– Чему мы учим? – спрашивает меня. – Ведь вся наука в теперешнем виде ложь, она для того, чтобы одним жилось хорошо, а другим приходилось бы только работать всю жизнь, без просвета, на богачей. И мы повинны в этом, мы пользуемся их каторжным трудом, так как не можем оторваться от общества, породившего нас и содержащего нас для своих надобностей или своей потехи. Я преподаю рисование и черчение в техническом училище, но чему научаем мы там своих учеников? Делать замки! Да замки для своих детей, для самих себя. Вот Толстой указывает это. Подождите, может, он найдет, как жить надо. Я жду. А пока надо самоусовершенствоваться, чтобы потом обновленным, с другим сердцем подойти к разрешению проклятого вопроса.
Часовников смотрел на меня глубокими глазами, просил:
– Вот что: искусство все же должно быть. Оно было и у рабов. Кроме замков, я хочу, чтобы они могли внести в свою работу то, что сохраняли и рабы, – чувство красоты. Ведь это единственное, что поднимало раба в его труде выше уровня рабочего скота. Так вот, пришлите нам образцы народного художественного творчества, резьбу по дереву, литье, кованые вещи, постройки. Они насмотрятся и, может, что сами сумеют. А иначе как же? Они для себя ничего не имеют в своей работе.
Из Москвы я выслал ему все, что мог найти по его просьбе, и получил благодарности в письмах, насыщенных тем же горением духа, жаждой найти выход из тупика жизни.
Левитан вырос в большую величину. Каждый пейзаж его был событием на передвижной выставке. Он берег свою славу, вынашивал подолгу вещи и ставил только то, что его удовлетворяло. Вещи, которые оказывались на выставке по его мнению слабыми, он снимал и увозил, не показывая публике. Из десятка привозимых на выставку вещей он снимал иногда половину. Иные переписывал, другие уничтожал. Частых повторений, как у большинства пейзажистов, у него не было. Почти в каждую картину вносил он новую ноту.
Его возмущало количество представляемых на выставку необработанных, непродуманных вещей, повторений старых мотивов, картинного базара.
– Для чего это? – показывал он на ряд пейзажей. – Думают попросту заработать и жестоко ошибаются. Простой расчет: ведь на этом рынке будет взято потребителем ровно столько, сколько он может затратить, ни больше, ни меньше, а потому не следует выходить из границ, а делать только то, что самого удовлетворяет. Этот базар ни к чему. Учеников своего пейзажного класса возил на ученическую дачу на этюды, «заражаться природой».
– Без этого нельзя, – говорил Исаак Ильич. – Надо не только иметь глаз, но и внутренне чувствовать природу, надо слышать ее музыку и проникаться ее тишиной.
Он был охотник, ходил на тягу вальдшнепов и, конечно, не ради самой охоты, стрельбы, но чтобы переживать моменты, связанные с охотой, которые давала ранняя весна.
Он красиво описывал время пробуждения природы, вечерние зори ранней весны и остатки снега в березовых рощицах, окутанных сумерками.
Третьяковская галерея отражает все этапы творчества Левитана в последовательности его развития. Здесь и ранняя «Осень в Сокольниках», «Плес на Волге», «После дождя», «Омут», «Март», «Золотая осень», «Солнечный день» и, точно реквием самому себе, – «Над вечным покоем».
С приходом славы изменилось и материальное положение Левитана. Он вышел из подавляющей его нищеты и мог не отказывать себе во всех потребностях культурного художника. Жил в тихом дворе, в небольшом уютном особняке с простой, но изящной обстановкой, ездил за границу, где работал и видел все, что было лучшего в искусстве.
Меня удивляло, что Часовников не имел общения со своим другом, хотя бы письменного. Что разъединило их? Я напомнил Левитану о нем. Исаак Ильич глубоко задумался и своим, особым, как бы заглушённым голосом заговорил.
– Да, да! Он стоит передо мной, не знаю, как сказать, – как живой укор совести. Не знаю, в чем я виновен, но чувствую свою вину, и не перед ним, а перед всеми. Он как бы моя перешедшая в него совесть, которая говорит мне то, что нашептывает и природа. Это неразгаданное и грустное, грустное без конца. И как тяжело бывает остаться наедине со своею совестью – так чувствую я себя при воспоминании о Василии Васильевиче.

«…С воспоминаниями о Касаткине у меня связываются воспоминания и о моей школьной жизни в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, так как при Касаткине я поступил в Училище, он был моим первым учителем и во многом помогал в устройстве моей личной жизни. … Чтя его как учителя и друга, я все же в обрисовке его личности стараюсь подойти к нему возможно беспристрастнее и наряду с большими его положительными качествами не скрою и черт, вносивших некоторый холод в его отношения к учащимся и товарищам-передвижникам…».

«…Познакомился я с Поленовым, когда окончил школу и вошел в Товарищество передвижников. При первой встрече у меня составилось представление о нем, как о человеке большого и красивого ума. Заметно было многостороннее образование. Поленов живо реагировал на все художественные и общественные запросы, увлекался и увлекал других в сторону всего живого и нового в искусстве и жизни. Выражение лица его было вдумчивое, как у всех, вынашивающих в себе творческий замысел. В большой разговор или споры Поленов не вступал и в особенности не выносил шума, почему больших собраний он старался избегать…».

Воспоминания одного из поздних передвижников - Якова Даниловича Минченкова - представляют несомненный интерес для читателя, так как в них, по существу впервые, отражена бытовая сторона жизни передвижников, их заветные мечты, дружба, трогательная любовь к живописи и музыке. Однако автор не всегда объективно оценивает события, омногом он говорит неопределенно, не указывая дат, некоторых фактов, называет некоторые картины неточными именами и т. п. Поэтому редакция считала необходимым снабдить книгу подробными примечаниями, дающими точные сведения о жизни и деятельности художников, упоминаемых в книге.
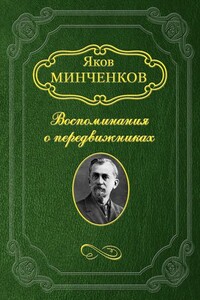
«Беггров был постоянно чем-то недоволен, постоянно у него слышалась сердитая нота в голосе. Он был моряк и, быть может, от морской службы унаследовал строгий тон и требовательность. В каком чине вышел в отставку, когда и где учился – не пришлось узнать от него точно. Искусство у него было как бы между прочим, хотя это не мешало ему быть постоянным поставщиком морских пейзажей, вернее – картин, изображавших корабли и эскадры…».

«…К числу питерцев, «удумывающих» картину и пишущих ее более от себя, чем пользуясь натурой или точными этюдами, принадлежал и Шильдер. Он строил картину на основании собранного материала, главным образом рисунков, компонуя их и видоизменяя до неузнаваемости. Часто его рисунок красивостью и иногда вычурностью выдавал свою придуманность. У него были огромные альбомы рисунков деревьев всевозможных пород, необыкновенно тщательно проработанных. Пользуясь ими, он мог делать бесконечное множество рисунков для журналов и различных изданий…».

«…Был ли он потомком лихих завоевателей Сибири или купцов, рыскавших и менявших товары на меха и золото «инородцев», – не знаю, но вся фигура его ярко выделялась на фоне людей, попавших под нивелировку культуры и сглаженных ею до общего среднего уровня. В основе его натуры лежал несокрушимый сибирский гранит, не поддающийся никакому воздействию.Самобытность, непреклонная воля и отвага чувствовались в его коренастой фигуре, крепко обрисованных чертах скуластого лица со вздернутым носом, крупными губами и черными, точно наклеенными усами и бородой.

В первой части книги «Дедюхино» рассказывается о жителях Никольщины, одного из районов исчезнувшего в середине XX века рабочего поселка. Адресована широкому кругу читателей.

В последние годы почти все публикации, посвященные Максиму Горькому, касаются политических аспектов его биографии. Некоторые решения, принятые писателем в последние годы его жизни: поддержка сталинской культурной политики или оправдание лагерей, которые он считал местом исправления для преступников, – радикальным образом повлияли на оценку его творчества. Для того чтобы понять причины неоднозначных решений, принятых писателем в конце жизни, необходимо еще раз рассмотреть его политическую биографию – от первых революционных кружков и участия в революции 1905 года до создания Каприйской школы.

Книга «Школа штурмующих небо» — это документальный очерк о пятидесятилетнем пути Ейского военного училища. Ее страницы прежде всего посвящены младшему поколению воинов-авиаторов и всем тем, кто любит небо. В ней рассказывается о том, как военные летные кадры совершенствуют свое мастерство, готовятся с достоинством и честью защищать любимую Родину, завоевания Великого Октября.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.

«…Я стараюсь воскресить перед собой образ Репина, великого реалиста в живописи, как я его понимаю – во всей правде, со всеми его противоречиями и непоследовательностью в жизни.В его натуре я видел поразительную двойственность. Он казался мне то гением в творчестве, борцом с сильной волей, преодолевающим на своем пути всякие жизненные трудности, громким эхом, откликающимися на все общественные переживания, служителем доподлинной красоты, – то, наоборот, в моей памяти всплывают черточки малого, не обладающего волей человека, не разбирающегося в простых явлениях жизни, и мастера без четкого мерила в области искусства…».

«…Мясоедов был столпом передвижничества. Собственно, у него родилась идея образования Товарищества передвижников. Он приехал от кружка московских художников в Петербург, в Артель художников, возглавляемую Крамским, добился объединения питерцев с москвичами в Товарищество передвижных художественных выставок и был самым активным членом его до последних дней своих. Как учредитель Товарищества он состоял бессменным членом его Совета…».

«Если издалека слышался громкий голос: «Это что… это вот я же вам говорю…» – значит, шел Куинджи.Коренастая, крепкая фигура, развалистая походка, грудь вперед, голова Зевса Олимпийского: длинные, слегка вьющиеся волосы и пышная борода, орлиный нос, уверенность и твердость во взоре. Много национального, греческого. Приходил, твердо садился и протягивал руку за папиросой, так как своих папирос никогда не имел, считая табак излишней прихотью. Угостит кто папироской – ладно, покурит, а то и так обойдется, особой потребности в табаке у него не было…».

«Пожалуй, никто из преподавателей Московского училища живописи не пользовался среди учащихся такой симпатией, как Корин. В его натуре была необычайная теплота, скромность и искренняя готовность оказать всяческую помощь ученикам. И внешность его – спокойная, особо мягкая – отвечала его характеру. Запомнилось его слегка смуглое лицо с нависшими густыми черными прядями волос, из-под которых глядели вдумчивые, немного грустные глаза…».