Лев Гумилев - [16]
Уже в ту пору Лев Гумилёв мечтает издавать когда-нибудь свой журнал и на полном серьезе обсуждает с П. Н.Лукницким и матерью его название. Сам «будущий главный редактор» предлагал заглавие «Одиссея приключений», но Анна Андреевна раскритиковала: дескать, не по-русски звучит Лукницкий предложил свой вариант — «Звериная толпа» Понравилось больше, хотя тоже непривычно. Однажды Ахматова призналась Павлу Николаевичу, что не считает Лёву «обыкновенным мальчиком ». Значит, уже тогда предвидела звездность его судьбы! И как-то произнесла задумчиво: «Неужели тоже будет поэт?..»
Глава 2
КРЕСТНЫЙ ПУТЬ ПАССИОНАРИЯ
В 1929 году 17-летний Лев Гумилёв приехал в Ленинград и поселился у матери в прославленном ею (а теперь уже и обессмерченном) Фонтанном доме, на квартире, формально принадлежавшей ее третьему (гражданскому) мужу Николаю Лунину. Здесь же проживала его бывшая жена Анна Евгеньевна Арене с дочкой Ирой. Все комнаты большой (и по существу коммунальной) квартиры, где теперь находится Мемориальный музей-квартира Анны Ахматовой, были заняты. Лёве выделили место в тупиковом конце длиннющего неотапливаемого коридора. Здесь он спал на сундуке и занимался по ночам, сидя за маленьким столиком. Хозяин квартиры — Н. Н. Пунин — относился к юноше отстраненно (если не сказать враждебно), видя в нем «лишний рот» и сына Николая Гумилёва — человека, которого никогда не любил, ни при жизни [12], ни после смерти. Но приходилось терпеть ради своей гражданской жены, с которой отношения также складывались не лучшим образом.
Через много десятилетий Л. Н. Гумилёв совершенно беспристрастно и объективно оценивал свое положение в новой семье матери: «Когда я кончил школу, то Пунин потребовал, чтобы я уезжал обратно в Бежецк, где было делать нечего и учиться нечему и работать было негде. И мне пришлось переехать к знакомым, которые использовали меня в качестве помощника по хозяйству — не совсем домработницей, а так сказать носильщиком продуктов. Оттуда я уехал в экспедицию, потому что биржа труда меня устроила в Геокомитет. Но когда я вернулся, Пунин встретил меня и, открыв мне дверь, сказал: "Зачем ты приехал, тебе даже переночевать негде". Тем не менее меня приютили знакомые, а затем, когда шла паспортизация, Пунин разрешил прописаться у него, хотя я жил на свою очень скромную зарплату совершенно отдельно». В дальнейшем, вспоминал Л. Н. Гумилёв, «Пунин забирал себе все мамины пайки (по карточкам выкупая) отказывался меня кормить даже обедом, заявляя, что он «не может весь город кормить, т. е. показывая, что я для него совершенно чужой и неприятный человек».
Трудно сказать, о чем в те годы больше мечтал молодой Лев Гумилёв — о карьере ученого-историка или же профессионального поэта. Тем не менее уже в 1930 году он решил: «И все-таки я буду историком!» Стихи же Льву очень хотелось писать не хуже, чем отец. Собственные стихотворные опыты действительно, иногда казались ему (да и другим тоже) похожими на отцовские. Он совершенно свободно чувствовал себя среди маститых авторов, в той литературной среде, где в нем самом, в свою очередь, видели наследника и хранителя традиций двух великих поэтов — Николая Гумилёва и Анны Ахматовой. Именно данное обстоятельство впоследствии открыло ему дверь в квартиру и семью Осипа Мандельштама, с которым юный поэт быстро сблизился и подружился. Иногда общепризнанный мэтр даже удостаивал похвалы ту или иную строку в ученических пока что стихах своего молодого друга (А еще Мандельштам говорил: «Лёва Гумилёв может перевести "Илиаду" и "Одиссею" в один день».)
Сама Анна Андреевна в ту пору стихов писала мало, читала их еще реже. Но всякий раз из-под ее пера выходили гениальные строки:
Вторая строфа посвящена первому мужу — отцу Льва Николаю Гумилёву, о котором поэтесса помнила до конца своих дней. О сыне она тоже помнила постоянно, но самые трагические стихи, обращенные к нему, были еще впереди. Анна Андреевна, как Кассандра (так ее, как мы помним, называл Мандельштам), предвидела тяжкий крестный путь обоих, осознавая при этом, что поэзия в принципе не может существовать без личной голгофы. «<…> Без палача и плахи / Поэту на земле не быть », — обреченно констатировала Ахматова, но истинную трагедийность этих страшных строк можно ощутить в контексте всего стихотворения:
Путь в высшее учебное заведение сыну дворянина и «контрреволюционера» по-прежнему был закрыт, и по окончании школы Лев через биржу труда устроился чернорабочим в трамвайное депо, затем — в геологический институт, что позволило ему с наступлением весны отправиться в геологическую экспедицию, занимавшуюся поисками слюды в окрестностях Байкала. О тех днях сохранились записи близкой подруги Льва Гумилёва Анны Дмитриевны Дашковой (1911— 2002), трудившейся вместе с ним в экспедиции по существу в качестве чернорабочей. Еще в Ленинграде их сблизила любовь к стихам Николая Гумилёва. «Лёва боготворил отца, — вспоминает Дашкова, — и едва я успевала произнести название стихотворения или поэмы, как он сразу же начинал читать наизусть любое произведение до конца. Читал он нараспев, но не монотонно, а очень выразительно, хотя и тихо, меняя тональность в зависимости от сюжета произведения. Так он читал поэму "Капитаны"».
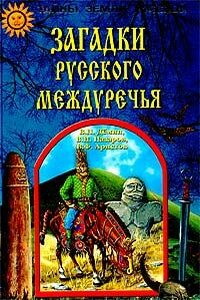
Книга посвящена неразгаданным тайнам русской истории и предыстории, ее языческой культуре и традициям. Внимание авторов сосредотачивается на сердце России – Русском Междуречье. Последнее понимается не в узкогеографическом, а в более широком смысле – как территория России, связанная с Восточно-Европейской (Русской) тектонической плитой. Впервые вводится в научный оборот уникальный материал, собранный в приокском регионе, ранее известный только в устной традиции и доступный лишь посвященным. В приложении дается материал по русскому язычеству знаменитого русского историка И.Е.Забелина, не потерявший своей актуальности по сей день.
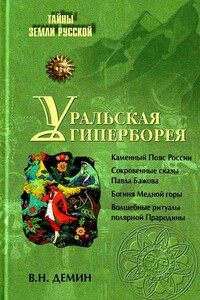
Сокровенные предания о захороненных кладах и самоцветах, горящих колдовским огнем, сказы о Даниле-мастере и Хозяйке Медной горы — влекущей, обольстительной, щедрой, но в то же время смертельно опасной… Быть может, все это — лишь вымысел талантливого сказочника Павла Бажова? Автор этой книги, Валерий Никитич Демин, убежден в обратном: легенды Урала — бесценное наследие земли Русской — уходят корнями в глубочайшую, гиперборейскую древность. Книга, обнаруженная в архиве писателя и философа, публикуется впервые.
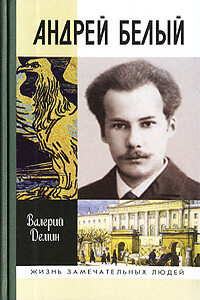
Книга доктора философских наук В. Н.Демина (1942–2006) посвящена одной из знаковых фигур Серебряного века – Андрею Белому (1880–1934). Оригинальный поэт, прозаик, критик, мемуарист, он вошел в когорту выдающихся деятелей русской культуры и литературы ХХ века. Заметный след оставил Андрей Белый и в истории отечественной философии как пропагандист космистского мировоззрения, теоретик символизма и приверженец антропософского учения. Его жизнь была насыщена драматическими коллизиями. Ему довелось испытать всеобщее поклонение и целенаправленную травлю, головокружительные космические видения и возвышенную любовь к пяти Музам, вдохновлявшим его на творческие свершения.
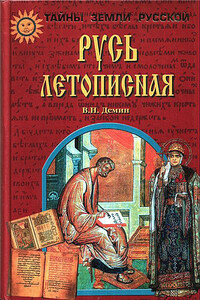
В книге доктора философских наук Валерия Никитича Демина на основе летописных и иных исторических источников прослеживается становление России и населявших ее народов, начиная с древнейших времен и вплоть до эпохи Петровских преобразований. По многим вопросам автор высказывает оригинальные научные суждения, во многом не совпадающие с общепризнанными.
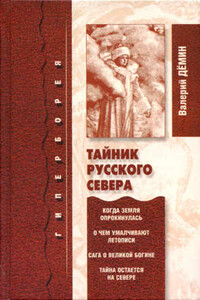
Автор на богатейшем научном, историческом и экспедиционном материале обосовывает концепцию полярного происхождения человечества и существования в доисторические времена на территории Русского Севера (а также других северных регионов) — в иных, нежели теперь, климатических условиях — обширного материка (или архипелага) — Арктиды, получившего у античных авторов название Гиперборея. Память о социальной формации, утвердившейся и процветавшей в те давние времена, сохранилась у народов Земли под названием Золотого века.Автор опирается на обширный и во многом уникальный материал исторического, фольклорного, этнографического, археологического содержания, в том числе — и на результаты двухлетних изысканий на Кольском полуострове в ходе проведенных экспедиций «Гиперборея-97 и 98».
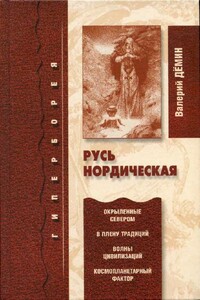
Представить Россию без Севера — все равно, что Землю без Солнца. Русский человек (да и любой россиянин тоже) — ничто без своей северной составляющей. Показать это и доказать — основная задача настоящей книги доктора философских наук В.Н. Лёмина. На базе обширного и разностороннего научного материала в книге обосновывается полярная концепция происхождения человеческой цивилизации. В беллетризированной форме рассказывается о попытка различных сил использовать гиперборейское наследство как и в благих, так и в злокозненных целях.
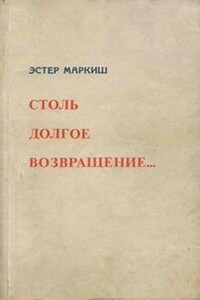
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Великого князя не любили, он не был злой человек, но в нём было всё то, что русская натура ненавидит в немце — грубое простодушие, вульгарный тон, педантизм и высокомерное самодовольство — доходившее до презрения всего русского. Елизавета, бывшая сама вечно навеселе, не могла ему однако простить, что он всякий вечер был пьян; Разумовский — что он хотел Гудовича сделать гетманом; Панин за его фельдфебельские манеры; гвардия за то, что он ей предпочитал своих гольштинских солдат; дамы за то, что он вместе с ними приглашал на свои пиры актрис, всяких немок; духовенство ненавидело его за его явное презрение к восточной церкви».Издание 1903 года, текст приведен к современной орфографии.

В 1783, в Европе возгорелась война между Турцией и Россией. Граф Рожер тайно уехал из Франции и через несколько месяцев прибыл в Елисаветград, к принцу де Линь, который был тогда комиссаром Венского двора при русской армии. Князь де Линь принял его весьма ласково и помог ему вступить в русскую службу. После весьма удачного исполнения первого поручения, данного ему князем Нассау-Зигеном, граф Дама получил от императрицы Екатерины II Георгиевский крест и золотую шпагу с надписью «За храбрость».При осаде Очакова он был адъютантом князя Потёмкина; по окончании кампании, приехал в Санкт-Петербург, был представлен императрице и награждён чином полковника, в котором снова был в кампании 1789 года, кончившейся взятием Бендер.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.