Лето на хуторе - [5]
Долго стоял он у дверей и покуривал молча, пока наконец Маша не вышла к нему,
— Ты куда ж это? — спросил отец.
— Пойду к Алене... Уж скотину никак пригнали.
— Что ж ты, доить помогать?
— Вот доить! Так пойду посмотрю...
— А ну, как подоишь?
— Ну, что ж, если и подою? Руки-то не отпадут!.. Маша убежала, а Михаиле продолжал курить.
В этот день он ждал своего пациента, про которого столько наболтала кума, и голова его была так полна новостью положения, что он едва заметил, как мимо него, шагах в двадцати, прошли к реке все коровы, понукаемые звонким бичом маленького подпаска, как раздался грубый бас Степана, и как коровы, напившись, пошли опять к скотной. Одна из них, бурая, с белой головой и огромными рогами, даже очень долго стояла и смотрела на него, но была, как и другие, прогнана мальчиком, прежде нежели успела обратить на себя внимание озабоченного старца.
Ему бы теперь очень хотелось узнать повернее, который час, но белые стенные часы с лиловой розой на циферблате уж третий месяц показывали ровно двенадцать.
А между тем тот, кого он так ждал, давно катился по дороге от села к хутору, и молодой сын салапихинского управителя был осыпаем вопросами о стране и ее жителях.
— Говорят, у него есть дочь?
— Девчонка важная! — отвечал белокурый деревенский фат, — бедовая девчонка! Плясунья такая; гармонии эти пойдут, пляски, песни... Из себя высокая, — продолжал он, поднимая свободный от возжей кулак, — перехват здесь этак по-московски... улыбнется, знаете, и глазишка-ми... ух-ты!
«Должно быть, потерянная как-нибудь», — подумал Васильков, вздохнув. Потом спросил опять: — А отец-то сам леченьем только и занимается?
— Михаиле Григорьич-то? Нет-с, они портные, шьют всякое платье... Капиталец тоже имеют свой, как люди говорят... Сам я не считал-с. Ну и лечит... по селам ездит, от всех болезней вылечивает. Человек умный! сам себя остромысленным человеком называет... сколько жителей на земле знает... Такая, говорит, есть наука: остромыслие, говорит...
— Неужели?
— Как же-с! Вот хуторок-с.
Телега, гремя, взъехала на мостик, перекинутый через рукав, и в то же самое время взорам путников предстала вся семья Михаилы, расположившаяся ужинать на открытом воздухе, у порога степановой избы.
Телега остановилась.
— Хлеб-соль! — воскликнул, приподнимая картуз, сын управителя. — Ешь щи, да только не пищи!
Степан загрохотал. Учитель слез с телеги. Все встали из-за стола.
— Все ли благополучно-с доехали? — спрашивал Ми-хайло, кланяясь. — Где ваш чемоданчик-то? Эх, ты, братец Степан! Ну, что стоишь? Возьми-ка, поди сними вещи-то с телеги.
Степан, с детским любопытством погрузившийся в созерцание широкого и белого пальто приезжего господина, казалось, забыл все остальное, лениво подошел к телеге, закричал сам на себя: «ну, тащи... эх!», и взвалил чемодан на плеча.
— Неси ко мне! — сказал Михайло. — Небось, батюшка, устали? Это то есть с дороги-то-с, сейчас бы и лечь?
— Да, это правда, я таки-устал.
— Уж не побрезгайте нашим жильем: оно ведь хоть и новое, да все то есть самое простое.
— Я и сам человек простой, — отвечал учитель, — за многим не гонюсь... Было бы чисто.
— Ну насчет этой чистоты можете быть в надежде! Я-с даже ужасно беспокоился...
Разговаривая таким образом, они вошли в дом и достигли той комнаты, в которой жила прежде Маша.
— Не знаю, как вы то есть будете довольны помещением? Я ужасно беспокоился об вас...
— Помилуйте! Комната очень хорошенькая и просторная.
— Да-с, комнатка хорошая... Дочь жила... Вон и зеркало свое забыла на столе... Вам оно не требуется?
— Нет, возьмите, — отвечал Васильков.
— Постелька вам приготовлена — все как надо, — продолжал хозяин. — Сторку я вам повесил на окне; еще из старого барского дома сторка осталась, а то солнце поутру ударение делает... Чайку не угодно ли?
— Нет, благодарю вас... Дайте мне только огня; я сам разденусь... Я хочу спать.
Михайло зажег свечу, и через полчаса наш молодой путешественник спал крепким сном.
— А не хорош постоялец, — заметила Алена, оставшись вдвоем с Машей.
— Чем же не хорош? Кажется, что недурен...
— Нашла хорошего! Чорный какой!... Волоса предлинные...
— Вот еще какая! — возразила Маша. А твой муж не чорный? Уж черней его и нет никого.
— Так что ж? разве он хорош? Нашла хорошего!
— Ах ты Господи! А попроси-ка его у тебя — не отдашь.
— И-и-и! да еще в придачу зипунишко старый отдам! — воскликнула, смеясь, Алена.
Таковы были мнения женщин на хуторе об Иване Павловиче Василькове.
Когда на следующее утро он проснулся, первым движением его было посмотреть на окно; на окне была та ста-Ринная сторка с пейзажем, которую накануне он не успел рассмотреть; теперь же она показалась так хороша, что он привстал на постели и долго не сводил с нее глаз. Среди сплошных масс яркой и не совсем естественного колорита зелени выступал маленький храм в греческом вкусе, довольно удачно осененный ветвями; у подножия его пастух, в костюме французского фермера, задумчиво пас стадо белых овец, а на более отдаленном плане женщина, с сосудом на голове, удалялась в чащу, за храм. На всем этом ландшафте, слегка колыхавшемся, — потому что окно было открыто, — на всем ландшафте весело играло утреннее летнее солнце; лучи его пробрались между ветками старой ракиты, развесившейся над окном, и падали светлыми пятнами на стору. Одно пятно упало, как нарочно, на то место, где весьма смелый, но не очень даровитый художник вздумал изобразить один из тех ярко зеленеющих просветов, которые попадаются в темных чащах лесов. Иван Павлович, рожденный в городе среди очень скромного класса людей, почти не знал обаяния старины... А стора была писана в наивные времена мадригалов и сладких пастушеских мечтаний, которым с такой мимолетной, но горячей отрадой предавались наши отцы и деды. На ней был изображен один из тех милых анахронизмов сборного идиллического блаженства, которые с такой любовью писались в век идиллий. Но не мысли о прошедшем шевелили Ивана Павловича при взгляде на стору. Он видел зелень, он видел солнце, рощу, греческий храм — он догадывался, каково должно быть утро, слышал веселое, до ярости веселое чириканье воробьев и пение петухов, которые оканчивали свои возгласы с такой интонацией, как будто были рады исполнять свою обязанность перед лицом прекрасной природы. И вся живительная прелесть ясного летнего утра взывала к нему; и он, умывшись и накинув пальто, вышел в другую комнату.

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

«…Я уверяю Вас, что я давно бескорыстно или даже самоотверженно мечтал о Вашем юбилее (я объясню дальше, почему не только бескорыстно, но, быть может, даже и самоотверженно). Но когда я узнал из газет, что ценители Вашего огромного и в то же время столь тонкого таланта собираются праздновать Ваш юбилей, радость моя и лично дружественная, и, так сказать, критическая, ценительская радость была отуманена, не скажу даже слегка, а сильно отуманена: я с ужасом готовился прочесть в каком-нибудь отчете опять ту убийственную строку, которую я прочел в описании юбилея А.

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
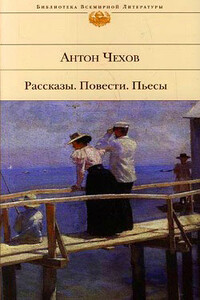
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
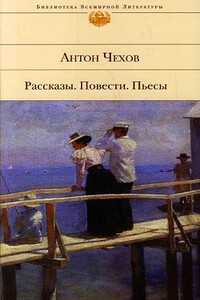
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
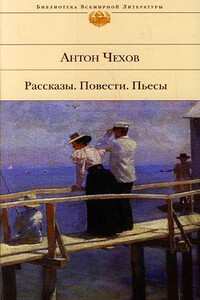
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, номер 136, 19 мая.В собрания сочинений не включалось.Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.