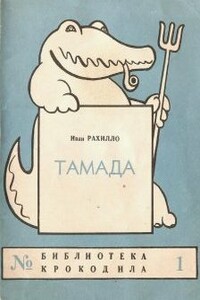— Встать, встать! — закричало несколько голосов.
Голубчик поднялся бледный и растерянный.
— Сейчас же отправляйтесь к командиру части, там всё уже известно!..
В похоронной тишине Голубчик вышел из комнаты.
— Рабочие передали нам двенадцать шахтёрских ламп для обслуживания ночных полетов… Отряд же, к своему стыду, до сих пор ещё не организовал у них обещанного авиауголка!
Желая хоть немного замять создавшуюся неловкость, Чикладзе похлопал старика по плечу.
— Папаша, до вас сколько километров?
— Шестьсот.
— Шестьсот?.. Поближе к весне прилетим к вам по воздуху!
— К тому времени мы к вам под землёй пробьёмся!
И шутка старика прозвучала, как укор.
Стыд жёг не только одного Чикладзе: Хрусталёв приехал на метеорологическую станцию на полчаса раньше комиссара. Ехал он с тяжёлым сердцем. В лёгком тумане проскакивали заснеженные деревья. Обогнув по шоссе заваленные снегом ангары, Хрусталёв подъехал к штабу.
Вера встретила его беспокойным, каким-то замученным взглядом: она дежурила ночь, и скулы её, туго обтянутые кожей, выпирали.
— Ну как? — спросил он таким тоном, будто требовал от неё долг.
Из-за погоды у Хрусталёва с Верой портились отношения: погода вмешивалась в чувства. И хотя до сих пор они разговаривали только по служебным делам, ни одним словом не обмолвившись о своих чувствах, но втайне они ревниво наблюдали друг за другом.
Хрусталёв понимал, что она ни в чем ему помочь не может, но у него сложилось какое-то странное убеждение, что именно от неё и этих тихих, записывающих и расчерчивающих атмосферные колебания аппаратов зависит управление погодой. Это было глупо, но ему почему-то казалось, что стоит ей нажать кнопку, как ветер стихнет и разойдётся туман. Вера хотя и смутно, но угадывала состояние Хрусталёва. Она скорбно смотрела на обработанную карту погоды, на стрелки с хвостиками, по которым она легко и свободно читала рождение и передвижение ветров. Она наклонилась совсем низко, чтобы Хрусталёв не видел прикушенных губ.
— Ну, да-к как же?.. — настойчиво потребовал он.
— Нимбусы. Высота — двести метров… Ветер порывистый до шестнадцати метров… К рассвету возможно прояснение…
— Гм, возможно?.. Печально… Всего хорошего, товарищ нимбус!.. — Он не хотел этого сказать, слово вырвалось нечаянно.
Оставшись одна, Вера чуть не зарыдала от обиды: разве ей не хотелось сообщить, что небо ясное, что ветер не больше четырех метров в секунду и погода будет держаться целый месяц?.. Пять месяцев подряд! Год!.. Проклятый туман!
Меньше всего ожидал Чикладзе встретить на лестнице командира отряда. Они молча остановились, и обоим стало как-то неловко. Хрусталёв досадливо махнул рукой, и комиссар понял его без слов.
— До полётов ещё целых три часа. Поедемте домой, поспим.
Так молча они и возвратились в авиагородок.
В полётной комнате старика одели в зимний комбинезон. От шерстяного подшлемника он отказался.
— Надень, надень, папаша, лицо отморозишь!
— Ничего. Борода тёплая… А ты не лети, — сурово обратился он к матери Андрея, — то не бабье дело!
— Вот враг! И всегда он против баб…
У ангара, работая на малом газу, ожидал самолёт. Андрей удивился, увидя чужую машину.
— Товарищ командир, кто летит с шефами? — Он ничуть не сомневался, что своих будет катать он.
— Сюрприз, товарищ Клинков!.. Летит новый пилот. Вы не видали его?
— Нет, — нахмуренно ответил Андрей.
— Вчера пробовал. Техника пилотирования хорошая.
Андрей самолюбиво отошёл в сторону: он уже заочно возненавидел соперника.
Закрываясь ладонью от струи ветра, Хрусталёв отдавал пилоту приказание:
— Высота четыреста метров!.. Один круг… Расчет с девяноста!
— Есть: высота — четыреста, один круг над городом, расчёт с девяноста!
Старик с любопытством потрогал крыло самолёта.
— Гм, а я думал, шо оно железное…
Его усадили в кабину и привязали ремнями.
— Удобно?
— Та куда там, як в санатории!
Через пять минут самолёт оторвался от земли. Старик сидел спокойно. Он пристально всматривался в круглое зеркальце, висевшее с правой стороны от летчика. Оттуда глядело на него румяное мальчишечье лицо, из-за полумаски очков лукаво поблёскивали глаза. Изредка машину подбрасывало ветром, но лётчик ловко предупреждал удары лёгкими движениями управления, сопровождая их улыбкой: у старика возникало впечатление, что покачивание самолёта зависело именно от этих улыбок. «Испытует, — решил он про себя, — ну-ну, нашего брата, шахтёра, не так-то просто запугать!» Старик неотрывно глядел в зеркало, тогда летчик показал рукой. Старик посмотрел через борт. Внизу, схваченный суставами переулков, медленно поворачивался заснеженный город. Старик смотрел так, как смотрят на собственные сапоги, — мысли его были заняты другим.
— Ты хлопец чи нет?.. — Наконец закричал он.
Лётчик, увидев в зеркало движения его губ, показал на уши и помахал рукою — ничего не слышно. Тогда старик погладил себя по щеке ребром ладони и крикнул:
— Бриешься?..
Летчик понял знак пассажира как просьбу: пройти бреющим полетом. Он рассмеялся, отрицательно покачал головой и нахмуренно указал на аэродром — без разрешения командира нельзя… Влететь может…
Старик же понял по-своему: «Чего брить, коли брить нема чего… Ишь, як нахмурил брови…»