Лестница - [8]
Последний раз я видел Яшу у него в комнате. Был выходной день, утро. Мама разбудила меня и сказала: “Спустись к Яше, скажи Жене, чтобы шла домой — бабушка что-то себя неважно чувствует…”. Я спустился на второй этаж, позвонил. Открыл мне “Бурьян”. Сразу же заулыбался, галантно поклонившись (так он шутил), пропустил меня в прихожую. И я услышал… Арию Сусанина — в исполнении Яши!… “Да-да!…” — звонко ответил он на мой стук в дверь. Он стоял посреди комнаты в трусах, белый, как молоко, а Женя лежала в кровати под одеялом. Она смутилась, покраснела, но тут же стала смеяться. “Чего ты приперся, дурачок?…” — говорила она смеясь. Ее длинные, распущенные волосы накрывали всю подушку. Я сказал. “Иди! — скомандовала она. — Я сейчас приду!”. Она все смеялась… А Яша, видно, все же усмотрел какой-то смысл, для себя, в арии Сусанина, в этом: “Ты взойдешь, моя заря! Настало время мое!”. Он хорошо пел…
Когда его “забрали”, а вслед за ним, через несколько дней, и “Бурьяна”, и до Пелагеи дошли разговоры о том, что это дело рук ее зятя, Королевича Елисея, она спустилась во двор и стала кричать всему дому, что их Дима, ее зять, никакой ни энкавэдэшник, а экспедитор в ресторане, что им, ей, в частности, “а Димочке еще больше”, “эти инородцы” не нужны и за три копейки. “Чего мне, ихняя жилплощадь нужна, а? — вопрошала она. — Что ж мы — звери ненасытные какие? Нам и своего хватает!… А если кто их выдал, так наверняка Богины — они ж партейные, им все до рук прибрать надо!… Маруську с дитем выселили, надо же!…”. Кричала она, как резаная, полчаса, не меньше… И убедила всех в своей непричастности к аресту “инородцев” — в искренности и бесстрашии Пелагеи никто не сомневался. Но и обвинения ее были в общем неосновательны: так, Яшу, например, и незачем было “выдавать”, он сам выдавал себя с головой, верней — головой, своим “разумом”, он ведь еще и писал, и посылал свои сочинения в различные издания, то есть сам же предоставлял “вещдоки” своей “преступности”. Что, о чем он писал?… Женя, много лет спустя, когда Яши давно уже не было в живых, по сведениям, добытым ею в МГБ, рассказывала мне, что то были сочинения философские и, как я понял, главная их идея заключалась в том, что — как это сегодня выразить без словаря, лексики Хайдеггера или, скажем, Фромма? — человек, соблазнившись своей властью над природой, окончательно утратил Бога, что непременно приведет его к самоуничтожению; даже в русской литературе, после Пушкина, он усматривал рост (или — отражение) этого “соблазна” — у Льва Толстого, Бунина — что в результате лишило и Слово его божественной свободы… И “важнейшее из искусств” ему представлялось последней ступенью этого “соблазна”, падением и творческим, и нравственным, и даже физическим, или — образом этого падения, сужения человеческого духа под видом его расширения, буквальным погружением в сновидческую ночь. И это писалось в тридцатые годы, в разгар индустриализации!… Кстати, и Хайдеггер, кажется, начинал в те тридцатые годы — идеи же носятся в воздухе, — даже, видно, и там, где почти нечем дышать… Вряд ли что-то сохранилось от сочинений бедного Яши, а вдруг?… Где-нибудь?… Наверняка это было бы интересно и сегодня, во всяком случае, понятнее, проще, чем Хайдеггер — ведь это сугубо наше: святая душевная простота!…
Что же касается Богиных — они жили на третьем этаже, занимали, после “выселения” Маруси с Изькой, квартиру полностью, как, впрочем, и сама Пелагея с семьей, и Мифа, и наша семья, — то это было слишком уж огульное обвинение: во-первых, Богины не могли “выдать” Яшу, да и “Бурьяна”, поскольку не смогли бы Яшу понять, если бы и слышали его, а он с ними не разговаривал, верней — они, Богины, не разговаривали ни с ним, ни с “Бурьяном”, да и ни с кем в доме, за исключением нашей семьи. Во-вторых, Богины не посмели бы претендовать на “жилплощадь” на другом, втором, этаже — с этим в нашем доме было строго, как будто дом находился под каким-то сверхприсмотром: освободившаяся комната тут же опечатывалась и сразу же заселялась новыми жильцами, в основном — военными, хотя, действительно, Богин, глава семьи, майор, начальник военной типографии, сумел переселить “Марусю с дитем” из комнаты в своей, теперь уже целиком своей, квартиры в такую же точно комнату в квартире напротив, в логово Охотника — там умер старик-музыкант (Пелагея тогда кричала во дворе: “Еще неизвестно, чего он вдруг помер! Кто ему подмог помереть?…”). Но Богину удалось осуществить этот ход с согласия Маруси, которую уговорили перейти — к великой, но затаенной ярости Охотника, метившего на эту комнату. Однако у Богина росла семья, его жена, маленькая, уже очень немолодая, или казавшаяся мне такой, напоминавшая кроткую, усталую козу, покорно продолжала рожать, а у Охотника и у его жены если и предвиделось прибавление, так только собак…
Они не только не разговаривали друг с другом, эти семьи, они даже не здоровались, хотя смотрели друг на друга при встрече, не отводя глаз, и напоминали мне шахматистов, ведущих нескончаемую молчаливую борьбу. И после такого пешечного хода со стороны противника — “Маруся с дитем”! — Охотник явно не собирался сдаваться, как раз тогда он приобрел третью собаку, красивую злую борзую. В чем же был смысл, причина этого враждебного противостояния? Я понимал: это были две власти, минувшая и настоящая. Охотник, в прошлом княжеский егерь, ни больше, ни меньше, и теперь что-то значил, руководил обществом охотников, точней — был заместителем Председателя этого общества, за ним нередко приезжали на машине большие начальники по виду, и он уезжал с ними и своими собаками. Конечно, кому-то он был нужен со своей профессией, и он сохранялся если и не во всей своей первозданной красе княжеского егеря, то частичной: его высокие кожаные сапоги, куртки, шляпы, ружья, вся охотничья амуниция так и излучали великолепие прошлой роскоши, и комнаты его сверкали, темно золотились этим прошлым, но не казались музейными — с прекрасными картинами, мебелью — они жили, продолжали жить, мощно, уверенно, спокойно. Таков был и сам он, Охотник, очень уже немолодой, но не старик. Подстать ему была и его жена, Екатерина Петровна, и в ней моментами проглядывала царственность, как ее, царственность, видимо, понимала жена Охотника: открывая, например, дверь своей квартиры, она делала шаг вперед, заполняя собой весь дверной проем, и гневно спрашивала того, кто звонил: “Чего надо?” И по двору она ходила так, высоко держа голову, не спеша, озираясь вокруг гневными своими маленькими зелеными глазками. Ее побаивались. Кроме, понятно, Пелагеи, которая, как я понимал, видела в ней, “Катьке”, как она называла жену Охотника, ровню себе, только “зверее” себя. Самого Охотника она, Пелагея, правда, не задевала, но достаточно ему было пройти, скрыться с глаз, как она начинала сыпать: “Цари! Из грязи — в князи?… Надеются, вернется все?… Не надейтеся — Богины тебе скоро башку снимут!… И собак твоих сдадут на живодерню!… Поразвели зверья в доме! Будто они одни тут! Князья!…”. Правда, говорилось все это без особой злости, как бы автоматически, по инерции — Пелагея не могла не говорить. Но люди эти были ей понятны, свои, они и общались: Екатерина Петровна, жена Охотника, заходила к Пелагее, Дуся, “злая царица”, бывала у них, у Охотника. Другое дело Богины. Туг Пелагея выбирала слова, как мне казалось; ее злоречие становилось, так сказать, косвенным: то она прохаживалась насчет одежды, поведения детей Богина, старшего Сеньки и младшего Тольки, моего ровесника, то задевала их мать, жену Богина, выходившую во двор с девчонками, одна — в коляске, другая — трехлетка, но задевала, как бы проявляя участие: “Чего сама коляску тащишь? — орала она. — Мужиков нету в доме, что ли? Вот зверье, все на бабу нагрузить норовят! Так хоть бы в теле, здоровая была, а то ж нету ничего, одна кожа!…”. Или: “Чего ты ее так укутала, малую?… Упреет, схватит насморк и помрет!… Думаешь, еще нарожаешь? Не думай! Это твоему кобелю нестрашно: подрыгался и пошел… Другими командовать!… А тебе еще детей растить, вон они какие бандиты, вылезли уже с мячом своим, покоя нету!…”. Мать Тольки слушала эти речи так, как будто не слышала, даже не улыбалась, усталость и кротость не сходила с ее узенького удлиненного лица.
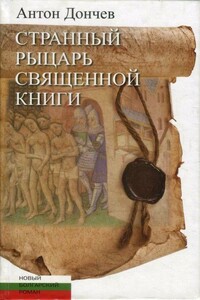
Герой романа, «странный рыцарь» Анри де Вентадорн, проходит на наших глазах путь от наемника, которому папа Иннокентий III поручает найти и похитить Священную книгу богомилов, — до Главного Хранителя этой Книги, во имя истины избирающего смерть на костре Инквизиции. «Книга была искрой, воспламеняющей костры, — и на кострах этих сгорали люди, несшие свет. Но они сами выбрали свой путь».Из необычного сочетания авантюрности и жертвенности рождается особая притягательность образа главного героя.

Грустные и смешные повести о людях, которые в России были евреями, а в Израиле стали считаться русскими.

Либби Миллер всегда была убежденной оптимисткой, но когда на нее свалились сразу две сокрушительные новости за день, ее вера в светлое будущее оказалась существенно подорвана. Любимый муж с сожалением заявил, что их браку скоро придет конец, а опытный врач – с еще большим сожалением, – что и жить ей, возможно, осталось не так долго. В состоянии аффекта Либби продает свой дом в Чикаго и летит в тропики, к океану, где снимает коттедж на берегу, чтобы обдумать свою жизнь и торжественно с ней попрощаться. Однако оказалось, что это только начало.

Давно забытый король даровал своей возлюбленной огромный замок, Кипсейк, и уехал, чтобы никогда не вернуться. Несмотря на чудесных бабочек, обитающих в саду, Кипсейк стал ее проклятием. Ведь королева умирала от тоски и одиночества внутри огромного каменного монстра. Она замуровала себя в старой часовне, не сумев вынести разлуки с любимым. Такую сказку Нина Парр читала в детстве. Из-за бабочек погиб ее собственный отец, знаменитый энтомолог. Она никогда не видела его до того, как он воскрес, оказавшись на пороге ее дома.
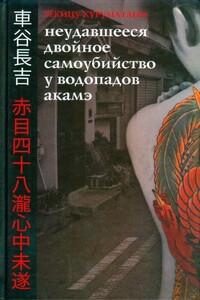
Чтобы написать эту книгу, автор провёл восемь лет среди людей, живущих за гранью бедности. Людей, среди которых не работают категории современного общества. Среди люмпенов, у которых нет ни дома, ни веры, ни прошлого, ни будущего. Которые живут, любят и умирают как звери — яростно и просто. Она полна боли, полна отчаянной силы. Читать её тяжело, и всё равно читаешь на одном дыхании. И, прочитав, знаешь, что ты уже не такой, каким был тогда, раньше, когда открыл её в первый раз. И что снова возьмёшь её с полки — чтобы взглянуть в лицо этой тьме с её вопросами, ответов на которые, быть может, просто нет. 16+ Для читателей старше 16 лет.

Кайлу повезло во всем: с родителями, с друзьями и даже с родным городом. Трава тут выше, чем везде, кузнечики - больше, краски - ярче, солнце - теплее, а тишина - звенит. Правда, рядом - всего-то ручей перейти - находится лес, а в лесу - Институт... Но это совсем другая история, из которой Кайлу с друзьями остались лишь обрывки детских страшилок. Книга собрана пользователем vlad433 ([email protected]) специально для flibusta.is, приятного чтения :)