Лес - [18]
Тут Монахов отвлекся хотя бы настолько, чтобы вспомнить, где он. Он поднял глаза на Ленечку удостовериться в своем открытии. Так Ленечки за это время не стало. И Наташи не было. Зябликов спал. И как раз в этот момент, позевывая и подчеркнуто скучая, поднялась со своего места тетушка и шла к себе, с личною рюмкой в руке, не сказав «спокойной ночи», обидевшись, наверно. Наверно, эти тетушкины звуки и пробудили Монахова от воспоминаний — так сколько же он вспоминал? Секунду или час? Если час, куда они вдвоем на так долго делись?.. — подумал он без задней мысли.
Дверь за тетушкой притворилась — Монахов вернулся к своей истории… Нет, это что же за фокусы! — возмущался он. Да как же я смел не видеть, как страшно она жила! Нищая, бедная девочка! Вот что значит влюбленные — слепы… Слепы-то они слепы, да как ловко. К себе и слепы. Видят, что только захотят. Что только захотят, то и видят. Так что же, я и тогда не любил?..
Шумно и бойко входила Наталья, а за ней, как слепец, с запрокинутым застывшим лицом, неся в нем плещущие свет и боль, словно боясь расплескать, медленно шел Ленечка. Она прошла прямо к Монахову, потрепала его по голове.
— Монахов, милый, я тебя бросила, прости. Ты скучал?
Монахов смотрел неприветливо.
— Ты не сердись, Монахов… Должна же я была ему сказать, — добавила она вполголоса.
— Что сказать?
Ленечка тем временем прошел, как стеклянный, словно бы тоненько позвякивая, мимо них и дальше, пока не уперся — там и остановился, у окна.
— Что я тебя люблю, что хочу остаться сейчас с тобой…
— Ты же говорила, что уже сказала?.. — шепотом просвистел Монахов.
— Да нет, — поморщилась Наталья, — вот сейчас сказала.
— А зачем же ты мне тогда сказала? — не понимал Монахов.
— Хотела посмотреть, что ты скажешь.
— И что я сказал?
— Да ничего ты не сказал, не бойся.
— Так, может, ты и сейчас не сказала, а только говоришь?..
— Тьфу, Монахов. Сказала. Тоска, Монахов… Сердца у тебя нет.
— А у тебя есть — такие вещи ему говорить?
— Как же я могла не сказать? — искренне удивилась Наталья. — Я хочу быть вместе с тобой…
Монахов пожевал этот ответ.
— Так ты что же ему сказала? — наконец сформулировал он. — Только, что ты меня любишь. и хочешь остаться со мной? Или что ты уже… как ты говоришь… «была вместе со мной»?
— Господи! — вспылила Наталья. — Какая разница! Будто неясно? Я что, девочка? Была, не была… Сказала, что люблю, и баста.
— Ну тогда-то что… Тогда ничего, — усмехнувшись, сказал Монахов. — Обойдется.
— Ты о чем? — не поняла Наталья.
— Сознанием обойдется. Не такие вещи обходились… — Он опять усмехнулся. «А я ведь играю… — подумал он. — Я ведь роль играю. И до чего же плохая написана для меня роль!»
— Ну, ты даешь, Монахов!..
Я пойду?.. — неслышно сказал Ленечка, наконец сообразив, что уперся во что-то, и повернувшись от окна. Он не слышал, что они говорили.
Наталья не услышала его.
Я даю… Ты — даешь! Человеку в лоб такое залепить! — громко шептал Монахов.
— Ничего. Это не так страшно. Страшно, пока не скажут. Вот ты же мне не сказал еще, что не любишь меня… И страшнее, чем сейчас, мне никогда не будет… — Монахов и сейчас не сказал. Наталья вздохнула. — А даже скажешь — не поверю. Сам сказал, что обойдется. Стихи напишет…
— Я пойду? — сказал Ленечка звонче.
— Стихи?.. — встрепенулся Монахов.
— Ты еще здесь? — удивилась Наталья.
Ленечка покорно шагнул к дверям.
— Постойте, — сказал решительный Монахов. — Там ведь еще осталось… — Он прошел к столу, разлил в бокалы и галантно раздал их действующим лицам. Ленечка вцепился в рюмку, как в соломину. Наталья отвернулась. — И вы мне обещали еще стихи переписать… — сказал Монахов, чокаясь с Ленечкой.
— Я сейчас… Я… — Он глянул на Наталью с испугом и надеждой, — …мигом. Я быстро перепишу. — Он поспешил, пока Наталья молчала, в угол, на шкуру, и там пристроился с книжечкой.
— Сволочь ты, Монахов, — спокойно шепнула Наталья и пошла в свой угол, на матрац.
Монахов тоже уселся на шкуру и теперь оглядывал сцену с тоскливым удовлетворением: Зябликов по-прежнему мертвецки спал, Наталья лежала лицом к стенке (интересно, открыты у нее глаза или закрыты?..), Ленечка, согнувшись в три погибели, близоруко и быстро писал в книжечку на колене… «Так по-детски…»— вздохнул Монахов, схватывая его позу.
Он утомленно прикрыл глаза (все-таки на случай — Наталья обернется)… «Ты и не знала, что в саду — обрыв…» Надо же! сразу запомнил. Значит, что-то есть. Вернее, может быть. Спросить бы Зябликова, что он думает, он ведь не высказался… Вот Наталья говорит, что он писатель замечательный. Подумать только, издается во всем мире… В Париже… Монахов легко представил себе Париж, в котором не бывал, и с трудом — Зябликова, который спал напротив. А вдруг Ленечка — великий поэт? Смешно. Быть не может. Что я в этом понимаю? А вдруг?.. Тогда кто я? Дантес, Мартынов? Бред какой-то… Странные люди. Не думал, что у Натальи — такая среда. Причем в Ташкенте. Другие люди. Богема, мать…
До сих пор еще есть разные люди — вот чего я не ожидал… И как все похожи! Одинаково у всех. И у разных одинаково, не только у одинаковых. И через двадцать лет одинаково, а может, и через миллион — какой-нибудь членистоногий наш мутант будет сортировать те же ракушки… Хоть и нет. (Ленечка все царапал на своем колене.) Он — не я, да ведь и двадцать лет — разница!.. Он представил вдруг, что у них с Асей мог быть вот такой сын. Ужас! Нет-нет, это он зря: Ленечка уже другой, не такой, как он… Разве я знал сотую долю столько, сколько он уже понимает в своих стихах?.. Однако странно: в стихах зряч, здесь слеп. Неприменимость забавна… Я был такой же. Разве я стихов не писал? Но, Господи, лучше не вспоминать — что это были за стихи! Может, все-таки у него талант?.. Мне-то какое дело!.. — рассердился Монахов. Ну талант, — так я, что, должен истории бояться? Авось в школе меня проходить не станут. Допустим, мне выпала такая же роль, как Дантесу, так разве меня царь ему подстроил? или враждебное талантам общество? Смешно. Пожалуй, это очень как раз непочтительно относиться к талантам не как к людям, а как к достояниям, как к шутам гороховым; уступать им своих дам, не стреляться с ними, считать, что это божья роса, а не они вам плюнули в рожу… М-да, нет, я темный инженер, слепое орудие в руках судьбы. Так честнее. Я хочу спать с Натальей, ради этого огород городил, жену и родителей перешагнул, и она хочет того же. Не достаточно ли? И если я ради него откажусь, разве не сыграю ровно ту же роль в отношении его, если не хуже? Наталья ведь в обиде на меня, как с ним-то обойдется? Хороший мальчик, я полюбил его. Хотя кого я люблю?.. И я был хороший мальчик. Так что же, тот мужик, увидев мою как бы святую пустоту, должен был перекреститься и бежать? Он и так поступил по справедливости, по-братски… Ужас! А вот еще ужас, если Ася тогда… Может, он вернулся, а она как-нибудь открутилась и ничего у нее с ним не было? Не дотянешься, не допросишься, не узнаешь ровно никогда. А если все-таки не было, кто же я тогда, что так все теперь понимаю! Морг, как говорит Наталья. А даже, если было, все равно — морг, раз уж узнаю, и знаю то, чего сердце не должно знать умом своим, а не мозгом (моргом) вшивым. Что же делать с Ленечкой? Зачем я ввязался, болван! Ишь расчувствовался, сердечность несуществующую почуял. Сколько раз еще мне обманываться, что я есть, когда меня нет? Впрочем, с каких это пор меня нет? А — с давних. Боже, что же это за пытка — без любви! Все обманываешься, все надеешься, а — дудки! По губам помажет — и все. Мимо. С сердцем, видите ли, чувствуют, а без сердца— нет. А то, что нет сердца, это ли не чувство! Да это ад прижизненный, да еще и за неведомый грех. А с сердцем — греши, да радуйся. Кому хуже, неизвестно. А может, у меня огромное, доброе, щедрое сердце? А я и этого не знаю, есть оно у меня или нет. Бьется там что-то, трепыхает, а что это? Вот и спрашивается, если я любил Асю сильнее всего в жизни, то любил ли я ее вообще? Я ведь ничего не помню— огромный темный мешок. Казалось, с миновавшим счастьем, а сунул туда наугад руку— такую дрянь вытащил, что больше и не суну, и вспоминать не буду. Так правильнее будет, сердечней… Ничего не помню. Лица ее не помню. Любви ее не помню. И ведь действительно — не помню. Казалось, смерть моя — расстаться с ней, а разрыва — не помню, ни боли, ни трагедии— ничего. Просто должен был умереть, каждую секунду грозила мне гибель, а секунда прошла — я и не заметил. Просто не стало Аси — и все. Не помню. Что-то все-таки вроде было, какая-то драма, не могло не быть. Нет, не помню… Помню, что была Ася, а потом ее нет, и я почему-то на пляже…
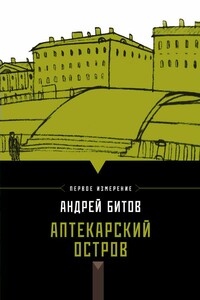
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
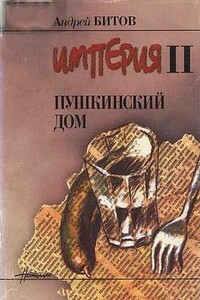
Роман «Пушкинский дом» критики называют «эпохальной книгой», классикой русской литературы XX века. Законченный в 1971-м, он впервые увидел свет лишь в 1978-м — да и то не на родине писателя, а в США.А к российскому читателю впервые пришел только в 1989 году. И сразу стал культовой книгой целого поколения.
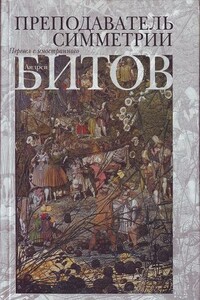
Новый роман Андрея Битова состоит из нескольких глав, каждая из которых может быть прочитана как отдельное произведение. Эти тексты написал неизвестный иностранный автор Э. Тайрд-Боффин о еще менее известном авторе Урбино Ваноски, а Битов, воспроизводя по памяти давно потерянную книгу, просто «перевел ее как переводную картинку».Сам Битов считает: «Читатель волен отдать предпочтение тому или иному рассказу, но если он осилит все подряд и расслышит эхо, распространяющееся от предыдущему к следующему и от каждого к каждому, то он обнаружит и источник его, то есть прочтет и сам роман, а не набор историй».

Роман-странствие «Оглашенные» писался двадцать лет (начатый в начале 70-х и законченный в 90-х). По признанию автора, «в этой книге ничего не придумано, кроме автора». Это пазл, сложенный из всех жанров, испробованных автором в трех предыдущих измерениях.Автор знакомит читателя с главными солдатами Империи: биологом-этологом Доктором Д., предлагающем взглянуть на венец природы глазами других живых существ («Птицы, или Новые сведения о человеке»), и художником-реставратором Павлом Петровичем, ищущем свою точку на картине Творца («Человек в пейзаже»)

В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.

«Империя в четырех измерениях» – это книга об «Империи», которой больше нет ни на одной карте. Андрей Битов путешествовал по провинциям СССР в поиске новых пространств и культур: Армения, Грузия, Башкирия, Узбекистан… Повести «Колесо», «Наш человек в Хиве, или Обоснованная ревность» и циклы «Уроки Армении», «Выбор натуры. Грузинской альбом» – это история народов, история веры и войн, это и современные автору события, ставшие теперь историей Империи.«Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове».

Честно говоря, я всегда удивляюсь и радуюсь, узнав, что мои нехитрые истории, изданные смелыми издателями, вызывают интерес. А кто-то даже перечитывает их. Четыре книги – «Песня длиной в жизнь», «Хлеб-с-солью-и-пылью», «В городе Белой Вороны» и «Бочка счастья» были награждены вашим вниманием. И мне говорят: «Пиши. Пиши еще».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.