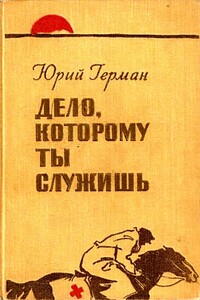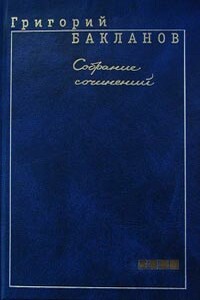— Убежал, — сказал Васька. — Они меня за селедками послали, на трешку селедок купить. Я трешку в кулак — и ходу. Хрен вон им, а не селедки!
Отпивая большими глотками чай, он с жадностью откусывал хлеб с маслом и говорил, как его мучают, как ему не дают есть, как ему приказали вывести в тещиной комнате клопов, как он уронил вазочку и какой был потом скандал.
— Ладно, — сказал Лапшин, — надоело. Только уж живи либо тут, либо там…
— Конечно, — согласился Васька.
Пришла с собрания Патрикеевна и, узнав, что Васька опять здесь будет жить, неожиданно обрадовалась. Ей пришло в голову, что теперь-то Васька должен платить за стол и что ей, пожалуй, тоже перепадет.
— Так что койку принести? — спросила она.
— Пойдем, принесем, — сказал Васька.
Когда расставляли койку, зазвонил телефон, и женский голос спросил у Лапшина, не здесь ли Окошкин.
— Здесь, — сказал Лапшин, передавая трубку Ваське.
Васька долго слушал молча, потом сказал:
— Не тарахтите, пожалуйста, как два мотоциклета.
Потом через несколько минут опять сказал:
— Попрошу террор не наводить.
И наконец, когда Лапшин прочитал передовую в газете, Васька произнес:
— Никаких претензий я к вам не имею, но с вами развожусь. Да! Хватит, подоили! Да! Так моей бывшей жене и передайте. Да! С приветом! Окошкин.
Повесив трубку, Васька сел на кровать к Лапшину, длинно и с облегчением вздохнул и сказал:
— Все в порядочке.
— Почитай лучше книжку, — сказал Лапшин. — Какой-то ты, действительно, нервный стал…
Они почитали еще с полчаса, потом Лапшин спросил, можно ли гасить свет. Но Васька уже не ответил — спал. На нем была новая нижняя рубашка, белая с розовым, и Лапшину сделалось смешно и немного жаль Ваську.
1937