Кумар долбящий и созависимость. Трезвение и литература - [15]
Вероятно, Андрей вообразил, что «наглядность чуда» обескуражит ленивых зоилов, заставит их развести руками и отменить приговор. Но недаром Цинциннат Ц. требовал не пересмотра дела, а лишь объявления срока казни: времени на «раскрутку» нашему подселенцу практически не оставалось. Несколько выступлений перед несколькими не обработанными медиагипнозом людьми, сохранившими раритетную способность чистого восприятия. А может статься, лишь на миг привлеченными новой игрой. Все дело в том, что Андрей работал без справки, без лицензии на использование дара. То есть в глазах сплошь самозваных «экспертов» был контрабандистом и браконьером. Это вышло ему боком уже после смерти, когда наконец захвативший какие-то призрачные бразды на виртуальном петербургском Олимпе переводчик изблевал на Андрея Крыжановского результаты своего застарелого литературного несварения.
Пушкин недаром оборвал «Египетские ночи» на том самом месте, где должно было по сюжету последовать описание реакции слушателей на выступление импровизатора. Я тоже в толк не возьму, как приступить к делу. Как описать таинственное изменение хорошо обкуренного Андреева голоса, вибрации и модуляции, призванные заменить «экстаз» и отсутствующий фрак. Тема задана: представьте, что «запретен ямб для нынешнего века». Едва ли это усилия безвестной клакерши. Или все же волна магнетизма, исходящая от импровизатора, диктует самую болезненную для него тему? Современный поэт, предпочитающий классическую форму, уже живет в состоянии такого запрета, как бы на нелегальном положении. Вся система, обслуживающая литературу, всем видом своим, как швейцар в дорогом отеле, показывает, что клиент не того пошиба. Импровизируя, Андрей интерпретирует запрет как драму ненужности:
Итак, не нужен стих ямбический…
Альтруистический поэт, он оставляет за собой упование:
Но людям вряд ли это нравится…
Управляемый темой, он начинает ею управлять согласно своей главной муке и заботе:
Не знаю, может быть, амнЕзия
настигнет (или амнезИя?) —
не знаю… Но ушла поэзия
куда-то на периферию.
Когда читаешь или слушаешь большой объем стихов, невольно вычленяешь, особенно начиная уставать, ключевое слово, на которое бессознательно «запал» стихотворец. Чаще других в импровизациях Андрей ставит два кратких прилагательных: «возможно» и «невозможно». Представить «дизморфоманию» как процесс необратимый он был не в состоянии, аналогично — признать необратимым любое из заблуждений, которое овладевало на большой срок большими человеческими массами. В конце концов, как ни оскорбляют Пригов или Сорокин идею авторства, одно из высших поручений человеку, они лишь приближают прозрение. Так тошнота приближает очищение организма. Страдания Андрея и иже с ним уже искуплены: когда разгребут завалы грядущие мусорщики, они обнаружат не пустоты, а культурный слой. Дошуршивая последние метры, архаичная пленка с бесполезными сегодня опытами подселенца среди прописанных и владеющих лицевым счетом персонажей, воспроизводит, вопреки общей надежной сомнительности, сомневающуюся надежду:
Но, может быть, мне что-то удалось…
И только Письмо вопиет, не считаясь ни с какой транквилизирующей метафизикой, седативной вечностью: «Как мне жаль этого издерганного, замордованного, раздавленного колесами нашей невозможной жизни человека!»
«Невозможной» — слово из импровизаций, не получивших официального статуса чуда.
Надо было больше напихать выдержек, подкрепить концепцию. А я все повторяю, как тот кассетный еще магнитофон, постороннюю строку, написанную тоже не жильцом, но, по давности отбытия, как бы и не вполне подселенцем:
Богосыновства никто не отнимет
И не развеет бессмертье мое…
(Д. Андреев)
Никто не отнимет…
Черная масса, серый строй. Всеволод Гаршин и война
Всеволод Гаршин в 33 года бросился в лестничный пролет. Значительную часть отпущенного ему творческого времени провел в психбольницах. Создал около 19 рассказов, несколько статей и переводов. При всем при том после первой публикации — рассказа (или очерка, как чаще называли этот жанр в период короткой жизни Гаршина) «Четыре дня» — автор получил европейское имя. Мало того: он умудрился с таким тощим багажом остаться в истории отечественной литературы далеко не на последнем месте.
В России тот, кто не настрогал пары десятков романов, и писателем-то считается с большим допуском. «Отметчик» (так его величали современники) Петр Боборыкин наваял больше 100 до некоторой степени художественных произведений, ввел в оборот слово «интеллигенция», а злоязыкая З. Гиппиус еще при жизни подписала ему приговор: «Г. Боборыкин пишет, все пишет, — а его не читают». В той же статье Гиппиус расхваливает беллетриста Альбова, который «начал писать раньше Гаршина», — стало быть, Гаршин служил своеобразной точкой отсчета литературных достижений. Так этот Альбов вообще затерялся — его только в какой-нибудь энциклопедии Южакова можно отыскать. Сокровищ словесных у нас столько, что можем выронить на ходу крупный бриллиант — и не заметить.
Но Гаршин остался — хотя рядом с ним писал Лев Толстой и угасающий, но лев Тургенев. Последний, как в по-картежному или по-ипподромному любят изъясняться критики, «поставил» именно на Гаршина и назвал именно его своим наследником. Что у них общего? Эргономичность письма и новый способ расставлять знаки препинания — интонировать ими фразу, добиваться практически поэтического синтаксиса. Гаршин — суперкиношный писатель, его рассказ в 6 страниц — готовый сценарий. Но проза последней трети XIX столетия вообще предвосхищает кинематограф: недаром «Анну Каренину» до сих пор что ни год экранизируют, а Чехова и подавно. Гаршин на изображение войны невероятно близким ему художником отозвался вполне синематографическим стихотворением «На первой выставке картин Верещагина» еще в 1974 г.:

Бустрофедон — это способ письма, при котором одна строчка пишется слева направо, другая — справа налево, потом опять слева направо, и так направление всё время чередуется. Воспоминания главной героини по имени Геля о детстве. Девочка умненькая, пытливая, видит многое, что хотели бы спрятать. По молодости воспринимает все легко, главными воспитателями становятся люди, живущие рядом, в одном дворе. Воспоминания похожи на письмо бустрофедоном, строчки льются плавно, но не понятно для посторонних, или невнимательных читателей.

Эта книга воспроизводит курс лекций по истории зарубежной литературы, читавшийся автором на факультете «Истории мировой культуры» в Университете культуры и искусства. В нем автор старается в доступной, но без каких бы то ни было упрощений форме изложить разнообразному кругу учащихся сложные проблемы той культуры, которая по праву именуется элитарной. Приложение содержит лекцию о творчестве Стендаля и статьи, посвященные крупнейшим явлениям испаноязычной культуры. Книга адресована студентам высшей школы и широкому кругу читателей.

Наум Вайман – известный журналист, переводчик, писатель и поэт, автор многотомной эпопеи «Ханаанские хроники», а также исследователь творчества О. Мандельштама, автор нашумевшей книги о поэте «Шатры страха», смелых и оригинальных исследований его творчества, таких как «Черное солнце Мандельштама» и «Любовной лирики я никогда не знал». В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов. Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами.

Валькирии… Загадочные существа скандинавской культуры. Мифы викингов о них пытаются возвысить трагедию войны – сделать боль и страдание героическими подвигами. Переплетение реалий земного и загробного мира, древние легенды, сила духа прекрасных воительниц и их личные истории не одно столетие заставляют ученых задуматься о том, кто же такие валькирии и существовали они на самом деле? Опираясь на новейшие исторические, археологические свидетельства и древние захватывающие тексты, автор пытается примирить легенды о чудовищных матерях и ужасающих девах-воительницах с повседневной жизнью этих женщин, показывая их в детские, юные, зрелые годы и на пороге смерти. Джоанна Катрин Фридриксдоттир училась в университетах Рейкьявика и Брайтона, прежде чем получить докторскую степень по средневековой литературе в Оксфордском университете в 2010 году.

Что такое музей, хорошо известно каждому, но о его происхождении, развитии и, тем более, общественном влиянии осведомлены немногие. Такие темы обычно изучаются специалистами и составляют предмет отдельной науки – музеологии. Однако популярность, разнообразие, постоянный рост числа музеев требуют более глубокого проникновения в эти вопросы в том числе и от зрителей, без сотрудничества с которыми невозможен современный музей. Таков принцип новой музеологии. Способствовать пониманию природы музея, его философии, иными словами, тех общественных идей и отношений, которые формировали и трансформировали его – задача этой книги.

В сборник вошли статьи и интервью, опубликованные в рамках проекта «Музей — как лицо эпохи» в 2017 году, а также статьи по теме проекта, опубликованные в журнале «ЗНАНИЕ — СИЛА» в разные годы, начиная с 1960-х.
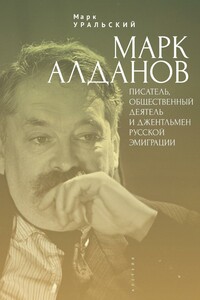
Вниманию читателя предлагается первое подробное жизнеописание Марка Алданова – самого популярного писателя русского Зарубежья, видного общественно-политического деятеля эмиграции «первой волны». Беллетристика Алданова – вершина русского историософского романа ХХ века, а его жизнь – редкий пример духовного благородства, принципиальности и свободомыслия. Книга написана на основании большого числа документальных источников, в том числе ранее неизвестных архивных материалов. Помимо сведений, касающихся непосредственно биографии Алданова, в ней обсуждаются основные мировоззренческие представления Алданова-мыслителя, приводятся систематизированные сведения о рецепции образа писателя его современниками.