Культурогенез и культурное наследие - [3]
В заключение подчеркнем, что в России труды В.М. Массона неизменно пользуются популярностью не только в академической, но и вузовской среде. Например, в этом отношении весьма показательной является его книга «Первые цивилизации»4. Это единственный в своем роде системный труд, созданный на мощной теоретической основе, обобщивший новые результаты множества археологических исследований. Книга дает интегративные представления о развитии социокультурных комплексов цивилизаций Старого и Нового Света – Месопотамии, Малой Азии, Средиземноморья, Ирана, Средней Азии, Индостана, Китая, Перу и Мезоамерики. Это издание в сущности выполняет функцию основного учебника для профессиональной университетской подготовки специалистов в области познания древних культур человечества.
В силу особой значимости методологических вопросов, разработанных Вадимом Михайловичем Массоном, ниже мы публикуем основную часть его лекции по этим вопросам, прочитанной в 2004 году.
Массон В.М.
Перспективы методологических разработок в исторической науке: формации, цивилизации, культурное наследие
Распад Советского Союза, социально-экономические и политические перемены порождают многочисленные дисбалансы в обществе, в том числе, в идеологической сфере. Сумятица и сумбур проявились и в области методологии исторической науки. Практика исследовательской и преподавательской работы побуждала автора в разной степени обращаться к этой тематике, и данная лекция представляет собой как бы систематизацию наблюдений и предложений в этой области.
Здесь естественным образом встает первый же вопрос о наследии, которое оставила советская эпоха: о методологии исторической науки в условиях идеологического прессинга и адаптации. В обстановке политизации, сопровождав шейся мощным организационным прессингом, сформировался целый ряд методологических стереотипов, восходящих, во всяком случае терминологически, к базовым положениям общей концепции К. Маркса и Ф. Энгельса о характере исторического развития и путях его реализации. Все это, как правило, принимало упрощенно-догматическую форму, где примитивизм мог дискредитировать любые, даже самые разумные теоретические положения. Одним из результатов этого процесса явился своего рода формационный эволюционизм. Социально-экономические формации, сами понимаемые предельно примитивным образом, закреплялись в жесткий перечень, состоящий из пяти формаций – первобытной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической и социалистической, переходящей в утопический коммунизм.
Терминологически эта система не была вполне адекватной, особенно, по отношению к т. н. рабовладельческой формации, поскольку, как показали конкретные исследования, сама структура групп населения, подвергавшихся эксплуатации, была весьма сложной и разнообразной. Вместе с тем деление исторического процесса на последовательные периоды вполне отвечало имеющимся реалиям. Негативным было лишь стремление придать этой периодизации жесткий характер обязательной эволюции. Исследователям предписывалась строгая последовательность, которую должны были проходить все общества без исключения. Так, предпринимались усилия по обнаружению рабовладельческой формации у скифов[4]. В.Я. Владимиров, подготовив прекрасную работу о монгольском обществе, вынужден был увенчать ее трафаретной формулировкой о монгольском кочевом феодализме[5]. По мере развития науки, новых открытий, методологических разработок мыслящие ученые все более отдавали себе отчет в том, насколько малоперспективным становился подход формационного эволюционизма с его ограниченной понятийной сеткой. Предпринимались по пытки (вполне в духе времени) выискать в работах, а то и в отдельных заметках и частных письмах ученых, причисляемых к «классикам марксизма-ленинизма», какие-то возможности согласования новых аспектов и теоретических подходов, становившихся все более узкими. Таково было, в частности, стремление выделять особую формацию – т. н. азиатский способ производства как попытку согласовать концепцию единообразия и жизненного разнообразия. Практически камуфляж формационного эволюционизма становился все более прозрачным под прессингом излагаемых и обобщаемых реальных фактов и исторических процессов. В этом от ношении по своему удачной была книга о теориях исторического процесса, увидевшая свет в 1983 году в условиях начинающегося крушения политизированного догматизма[6].
Примитивизм догматического формационного подхода к историческому процессу восходит к упрощенному пониманию дарвиновского эволюционизма как некоего абсолютного императива. В новой дарвиновской биологии разрабатывалось учение о пунктуализме как о движении, отражающем посте пенный характер развития с остановками, замедлениями и возвратными движениями. В этом отношении антитезой формационному эволюционизму является концепция ритмов культурогенеза. Конкретная история изобилует реальными примерами замедления исторического процесса, стагнациями эволюций с обратным знаком, отодвигающим то или иное общество на целую историческую эпоху. Классический пример тому – крито-микенское общество, ярко демонстрирующее высокий социально-экономический статус общества, уже полностью владеющего таким важнейшим показателем сложившейся цивилизации как письменность. С его крушением история как бы делает шаг назад, письменность забыта и изобретается заново. Гомеровская Греция осуществляет новый виток социально-политического прогресса со сложением ран них форм царской власти. Тот же самый пульсирующий ритм мы видим и в Индии, где после упадка цивилизации Хараппы наступает внешне архаический бесписьменный период. Новый цикл движения к государству и цивилизации начнется почти тысячелетие спустя, когда развивается ведийское общество, причем в ином пространственном локусе – в долине Ганга. На уровне макроизменений исторический процесс в целом движется в основном по восходящей линии. На уровне микро изменений имеют место различные перепады, вплоть до стагнации и деградации.
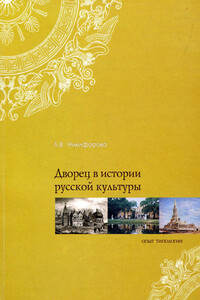
Дворец рассматривается как топос культурного пространства, место локализации политической власти и в этом качестве – как художественная репрезентация сущности политического в культуре. Предложена историческая типология дворцов, в основу которой положен тип легитимации власти, составляющий область непосредственного смыслового контекста художественных форм. Это первый опыт исследования феномена дворца в его историко-культурной целостности. Книга адресована в первую очередь специалистам – культурологам, искусствоведам, историкам архитектуры, студентам художественных вузов, музейным работникам, поскольку предполагает, что читатель знаком с проблемой исторической типологии культуры, с основными этапами истории архитектуры, основными стилистическими характеристиками памятников, с формами научной рефлексии по их поводу.

Есть события, явления и люди, которые всегда и у всех вызывают жгучий интерес. Таковы герои этой книги. Ибо трудно найти человека, никогда не слыхавшего о предсказаниях Нострадамуса или о легендарном родоначальнике всех вампиров Дракуле, или о том, что Шекспир не сам писал свои произведения. И это далеко не все загадки эпохи Возрождения. Ведь именно в этот период творил непостижимый Леонардо; на это же время припадает необъяснимое на первый взгляд падение могущественных империй ацтеков и инков под натиском горстки авантюристов.

Книга состоит из очерков, посвященных различным сторонам духовной жизни Руси XIV‑XVI вв. На основе уникальных источников делается попытка раскрыть внутренний мир человека тех далеких времен, показать развитие представлений о справедливости, об идеальном государстве, о месте человеческой личности в мире. А. И. Клибанов — известнейший специалист по истории русской общественной мысли. Данной книге суждено было стать последней работой ученого.Предназначается для преподавателей и студентов гуманитарных вузов, всех интересующихся прошлым России и ее культурой.

Автор, на основании исторических источников, рассказывает о возникновении и развитии русского бала, истории танца и костюма, символике жеста, оформлении бальных залов. По-своему уникальна опубликованная в книге хрестоматия. Читателю впервые предоставляется возможность вместе с героями Пушкина, Данилевского, Загоскина, Лермонтова, Ростопчиной, Баратынского, Бунина, Куприна, Гоголя и др. побывать на балах XVIII–XX столетий.Это исследование во многом носит и прикладной характер. Впервые опубликованные фигуры котильона позволяют воспроизвести этот танец на современных балах.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Издание является первым полным русским переводом двух книг выдающегося американского литературоведа Хэролда Блума, представляющих собой изложение оснований созданной им теории поэзии, в соответствии с которой развитие поэзии происходит вследствие борьбы поэтов со своими предшественниками.