Кубик - [2]
– Так будешь со мной играть?
– Не буду.
– Почему?
– Потому что не собираюсь.
– А если я тебе подарю свои кремушки?
Она подумала, молчаливо пошевелив губами с небольшой заедой в одном углу рта.
– Смотря какие кремушки.
Мальчик вынул из кармана четыре кремушка и подкинул их на ладони так, что они чокнулись.
– Это не настоящие, а простые: обыкновенные галечки с Ланжерона, – сказала девочка презрительно. – Вот у меня кремушки – так настоящие, ты таких сроду не видел. Они электрические. Их чокнешь – искры летят, как из кресала.
Она из предосторожности и застенчивости повернулась к мальчику худой, твердой спинкой, залезла через квадратный вырез платья за пазуху и достала кукольный чулочек, откуда вытряхнула на ладонь несколько темных от мазута кремушков.
– Обыкновенные железнодорожные, – презрительно сказал мальчик, – таких между шпал валяются миллиарды.
– Зато настоящие кремушки. А у тебя просто галечки. Таких на Ланжероне можешь за одну минуту набрать миллион биллиардов. Они без электричества. А мои с электричеством.
Мальчик засуетился и стал чокать своими кремушками, но искры не высекались. Электричество не показывалось. Один камешек даже мягко раскололся.
Девочка оскорбительно-громко захохотала.
– Можешь спрятаться в будку со своими простыми галечками и даже не думай равнять их с моими железнодорожными, электрическими, со станции Одесса-сортировочная.
Тогда-то и прилетел воробей, легко сев на забор, утыканный сверху зелеными и голубыми бутылочными осколками.
– Например, в воробья попадешь? – спросила девочка.
– Ого!
Вот этого-то именно и не следовало говорить, да еще так хвастливо. А может быть, именно следовало.
…Как знать, как знать!…
История девочки Саньки и мальчика Пчелкина, которую я собираюсь здесь рассказать, как и все то, что происходит в мире, не имеет начала, а тем более конца, так что примем за точку отсчета тот характерный звук, который раздался на одной из четырех тенистых улиц дачной местности «Отрада» в начале этого века.
«Для меня главное – это найти звук, – однажды сказал Учитель, – как только я его нашел – все остальное дается само собой. Я уже знаю, что дело кончено. Но я никогда не пишу того, что мне хочется, и так, как мне хочется. Не смею. Мне хочется писать без всякой формы, не согласуясь ни с какими литературными приемами. Но какая мука, какое невероятное страдание – литературное искусство!»
«Не смею», – имел мужество признаться Учитель. Это надо заметить. Он не смел, а я смею! Но точно ли я смею? Большой вопрос. Скорее – хочу сметь. Вернее всего, я просто притворяюсь, что смею. Делаю вид, что пишу именно то, что мне хочется, и так, как мне хочется. А на самом деле… А на самом-то деле?… Не уверен, не убежден. Кое-кто, правда, осмеливается писать «так, как ему хочется», не согласуясь ни с какими литературными приемами. По-видимому, литературный прием, заключающийся в полном отрицании литературного приема, это и есть мовизм.
Кое-кто написал однажды и даже напечатал черным по белому: «С выпученными глазами и облизывающийся – вот я. Некрасиво? Что делать».
Я так не умею, просто не могу. Не смею! По природе я робок, хотя и слыву нахалом. В глубине души я трус. Я еще, как некогда сказал о себе Чехов, не выдавил из себя раба. Я даже боюсь начальства. Недавно, уже дожив до седых волос, я испытал ужас, когда на меня вдруг, совсем, впрочем, не грозно, а так, слегка, поднял голос один крупный руководитель. Я почувствовал головокружение, унизительную тошноту и, придя домой, лег на постель, не снимая ботинок, в смертной тоске, в ужасе, вполне уверенный, что теперь уже «все кончено»… Чувство, что меня только что выгнали из гимназии: сон, который повторяется в моей жизни бесконечное число раз, как зеркало в зеркале – уходящий в вечность ряд уменьшающихся в перспективе зеркал, – в одну и в другую сторону – в пропасть прошлого и в пропасть будущего, и мое опрокинутое, полуобморочное трусливое лицо, вернее – бесконечное число лиц и горящих стеариновых свечей и отчаяние, отчаяние…
Мне стыдно во всем этом признаваться, но что же делать, дорогие мои, что же делать?…
Слово «звук» не вполне точно выражает то, что мне нужно, чтобы «остальное далось само собой», как сказал Учитель. Я думаю, одно дело – звук, а другое дело – интонация, музыкальная фраза, мелодия. Учитель, видимо, не отделял одно от другого. Да и надо ли отделять? Ведь и без одного и без другого ничего не сделается само собой. Но лично я очень строго разделяю эти понятия: интонация и звук. Ну, интонация, мелодия – это ясно: то самое, внутреннее, а потом и внешнее, заставляющее сжиматься горло и дрожать на губах – «м… м… м… м…» – запевка всей вещи, ее музыкальный ключ, ее тайная горечь: никто в эту ночь не спал в доме Болконских. Звук же совсем другое дело. Весьма возможно, что звук – самое неисследованное в мире. В звуке содержится гораздо больше того, что мы улавливаем своим несовершенным слуховым аппаратом. Это всегда какая-то тайная информация, поток сигналов, как бы моделирующих звучащую вещь в мировом пространстве. Волшебный «эффект присутствия».
Не может быть звука вне материи, породившей его, так же как не может быть сознания вне бытия. Звук – это сознание колеблющейся материи.

В книгу выдающегося советского писателя Валентина Катаева вошли хорошо известные читателю произведения «Белеет парус одинокий» и «Хуторок в степи», с романтической яркостью повествующие о юности одесских мальчишек, совпавшей с первой русской революцией.
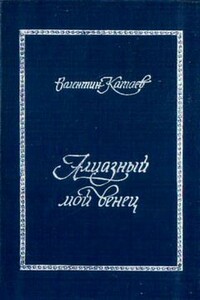
В книгу выдающегося советского писателя вошли три повести, написанные в единой манере. Стиль этот самим автором назван «мовизм». "Алмазный мой венец" – роман-загадка, именуемый поклонниками мемуаров Катаева "Алмазный мой кроссворд", вызвал ожесточенные споры с момента первой публикации. Споры не утихают до сих пор.
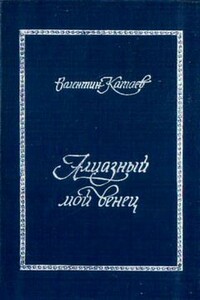
В книгу выдающегося советского писателя вошли три повести, написанные в единой манере. Стиль этот самим автором назван «мовизм». По словам И. Андроникова, «искусство Катаева… – это искусство нового воспоминания, когда писатель не воспроизводит событие, как запомнил его тогда, а как бы заново видит, заново лепит его… Катаев выбрал и расставил предметы, чуть сдвинул соотношения, кинул на события животрепещущий свет поэзии…»В этих своеобразных "повестях памяти", отмеченных новаторством письма, Валентин Катаев с предельной откровенностью рассказал о своем времени, собственной душевной жизни, обо всем прожитом и пережитом.
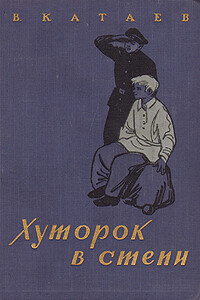
Роман «Хуторок в степи» повествует с романтической яркостью о юности одесских мальчишек, совпавшей с первой русской революцией.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!Перед вами роман «Зимний ветер» — новое произведение известного советского писателя Валентина Петровича Катаева. Этим романом писатель завершил свой многолетний труд — эпопею «Волны Черного моря», в которую входят «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи» и «За власть Советов» («Катакомбы») — книги, завоевавшие искреннюю любовь и подлинное признание у широких слоев читателей — юных и взрослых.В этом романе вы встретитесь со своими давними знакомыми — мальчиками Петей Бачеем и Гавриком Черноиваненко, теперь уже выросшими и вступившими в пору зрелости, матросом-потемкинцем Родионом Жуковым, учителем Василием Петровичем — отцом Пети, славными бойцами революции — большевиками-черноморцами.Время, описанное в романе, полно напряженных, подлинно драматических событий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые — журн. «Новый мир», 1928, № 11. При жизни писателя включался в изд.: Недра, 11, и Гослитиздат. 1934–1936, 3. Печатается по тексту: Гослитиздат. 1934–1936, 3.

Василий Журавлев-Печорский пишет о Севере, о природе, о рыбаках, охотниках — людях, живущих, как принято говорить, в единстве с природой. В настоящую книгу вошли повести «Летят голубаны», «Пути-дороги, Черныш», «Здравствуй, Синегория», «Федькины угодья», «Птицы возвращаются домой». Эта книга о моральных ценностях, о северной земле, ее людях, богатствах природы. Она поможет читателям узнать Север и усвоить черты бережного, совестливого отношения к природе.
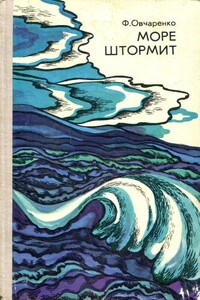
В книгу известного журналиста, комсомольского организатора, прошедшего путь редактора молодежной свердловской газеты «На смену!», заместителя главного редактора «Комсомольской правды», инструктора ЦК КПСС, главного редактора журнала «Молодая гвардия», включены документальная повесть и рассказы о духовной преемственности различных поколений нашего общества, — поколений бойцов, о высокой гражданственности нашей молодежи. Книга посвящена 60-летию ВЛКСМ.

