Кто-то, никто, сто тысяч - [9]
Пока отец был жив, к нам во двор никто не заходил. На земле еще лежало множество нетесаных камней, при виде которых можно было подумать, что работы просто приостановлены и скоро возобновятся. Но когда между булыжниками и вдоль стен начала прорастать трава, все эти ненужные уже камни сразу стали казаться старыми и отслужившими свое. А когда отец умер, ими стали пользоваться как скамейками соседские кумушки, которые одна за другой, поначалу неуверенно, рискнули проникнуть под арку ворот как бы в поисках укромного уголка — посидеть в тенечке и тишине. А потом, увидев, что никто против этого не возражает, они оставили все колебания своим курам и присвоили себе наш двор, а заодно и колодец. Здесь они стирали белье, здесь же развешивали его на просушку, а затем, покуда солнце пронизывало веселым светом слепящую белизну развевающихся на веревке простыней и сорочек, распускали по плечам блестевшие от масла волосы и начинали искаться, как это делают обезьяны.
Я никогда не высказывал по поводу этого вторжения ни удовольствия, ни досады, хотя меня и раздражал вид одной вечно хныкающей старухи, с запавшими глазами и горбом, выпирающим из-под выцветшего зеленого жакета. И еще меня тошнило от одной грязной, оборванной толстухи, с огромной грудью, всегда вытащенной из кофты, и от младенца у нее на коленях — с огромной, покрытой струпьями, поросшей рыжим пухом головой. Видимо, у моей жены был свой расчет не выгонять их с нашего двора: за какие-нибудь жалкие объедки и обноски они готовы были и поработать.
Наш двор, мощенный булыжником, как улица, представлял собою пологий склон. Помню, как мальчиком, вернувшись домой на каникулы, я стоял поздними вечерами на одном из балконов этого дома, тогда еще совсем нового. Помню, какую тоску навевала на меня мертвенная белизна всех этих булыжников, широко раскинувшаяся, наклонная, с колодцем посередине, который по ночам вдруг начинал бормотать — таинственно и звонко. Ржавчина почти сразу же съела красный лак на железной ручке ворота, от которого отходила веревка с ведром на конце, — и какой печалью веяло от этой облупившейся ручки, которая казалась больной! Может быть, она казалась больной еще и из-за того, что так тоскливо скрипел ворот, когда по ночам веревку шевелил ветер, а небо, ясное и звездное, но подернутое тончайшей дымкой, словно пылью припорошившей его прозрачность, как будто замерло над безлюдным двором навсегда.
После смерти моего отца Кванторцо, ставший во главе дела, выгородил в доме те комнаты, которые отец предназначал для него, и получившуюся квартирку решил отдавать внаем. Моя жена не возражала, и спустя какое-то время в квартирке этой поселился старик, молчаливый пенсионер, всегда тщательно — чисто и просто — одетый, маленький и хрупкий, но с чем-то неуловимо задиристым во всем облике: выпяченная грудь, выражение властности на изможденном лице — этакий полковник в отставке! На щеках густая сеть багровых прожилок, а глаза, широко расставленные, немного раскосые, были совершенно как у рыбы.
Я не обращал на него внимания, не позаботился даже узнать, кто он, чем живет. Несколько раз я встречал его на лестнице и, слыша его неизменно вежливое «добрый день» или «доброе утро», отметил, что он, должно быть, очень воспитанный человек.
Никаких подозрений не вызывали у меня и его жалобы на комаров, досаждавших ему ночами и налетавших — как он считал — со стороны запущенных служб по правую руку от дома, которые Кванторцо после смерти отца пустил под экипажные сараи.
— Да-да, вы правы! — восклицал иной раз я в ответ на его жалобы.
Я хорошо помню, что в этом моем восклицании было неудовольствие, но не в связи с комарами, досаждавшими соседу, а в связи с тем, во что превратились огромные помещения этих чистых и светлых служб, которые строились, когда я был мальчишкой. Когда в ту пору я туда забегал, меня странно возбуждала ослепительная белизна штукатурки и пленял влажный запах стружки, рассыпанной на звонком кирпичном полу, еще забрызганном известкой. А когда в зарешеченные окна било солнце, приходилось закрывать глаза — так слепили эти белые стены.
Эти сараи, где хранились старые прокатные ландо, в которые когда-то впрягались тройки, хотя и пропитались за эти годы вонью сгнившей соломенной подстилки и помоев, черными лужами стоявших у входа, все-таки продолжали наводить меня на мысль о прелести быстрой езды, об экипажах, вывозивших меня в детстве на дачу, когда мы ехали посреди открытых полей, и мне казалось, что для этого они, эти поля, и созданы, чтобы поглощать и рассеивать в воздухе веселый перезвон колокольчиков. Эти воспоминания и помогали мне выносить соседство экипажных сараев, тем более что комаров в Рикьери было полно и без них, и все это знали, и во всех домах от них защищались посредством противокомарных пологов.
Не знаю, что подумал мой сосед при виде улыбки, тронувшей мои губы в ответ на его гордое заявление, что пологов он не выносит, потому что под ними нечем дышать.
Да как это так — не выносить пологов! Да я бы не расстался с пологом, даже если бы все комары вдруг исчезли из Рикьери, я завешивался бы им из одного только удовольствия, которое он мне доставлял — закрепленный высоко-высоко, как я люблю, и расправленный вокруг кровати без единой складочки. Комната, которую видишь сквозь мириады крохотных дырочек в тончайшем тюле; как бы отделенная от всего мира постель; ощущение будто тебя обволокло легкое белое облако.

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.
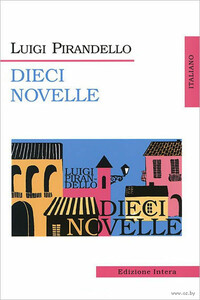
Новелла крупнейшего итальянского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1934 года Луиджи Пиранделло (1867 - 1936). Перевод Ольги Боочи.
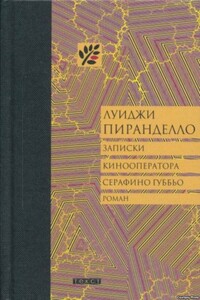
«Записки кинооператора» увидели свет в 1916 году, в эпоху немого кино. Герой романа Серафино Губбьо — оператор. Постепенно он превращается в одно целое со своей кинокамерой, пытается быть таким же, как она, механизмом — бесстрастным, бессловесным, равнодушным к людям и вещам, он хочет побороть в себе страсти, волнения, страхи и даже любовь. Но способен ли на это живой человек? Может ли он стать вещью, немой, бесчувственной, лишенной души? А если может, то какой ценой?В переводе на русский язык роман издается впервые.Луиджи Пиранделло (1867–1936) — итальянский драматург, новеллист и романист, лауреат Нобелевской премии (1934).

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.

Дочь графа, жена сенатора, племянница последнего польского короля Станислава Понятовского, Анна Потоцкая (1779–1867) самим своим происхождением была предназначена для роли, которую она так блистательно играла в польском и французском обществе. Красивая, яркая, умная, отважная, она страстно любила свою несчастную родину и, не теряя надежды на ее возрождение, до конца оставалась преданной Наполеону, с которым не только она эти надежды связывала. Свидетельница великих событий – она жила в Варшаве и Париже – графиня Потоцкая описала их с чисто женским вниманием к значимым, хоть и мелким деталям.

«Мартин Чезлвит» (англ. The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit, часто просто Martin Chuzzlewit) — роман Чарльза Диккенса. Выходил отдельными выпусками в 1843—1844 годах. В книге отразились впечатления автора от поездки в США в 1842 году, во многом негативные. Роман посвящен знакомой Диккенса — миллионерше-благотворительнице Анджеле Бердетт-Куттс. На русский язык «Мартин Чезлвит» был переведен в 1844 году и опубликован в журнале «Отечественные записки». В обзоре русской литературы за 1844 год В. Г. Белинский отметил «необыкновенную зрелость таланта автора», назвав «Мартина Чезлвита» «едва ли не лучшим романом даровитого Диккенса» (В.

«Избранное» классика венгерской литературы Дежё Костолани (1885—1936) составляют произведения о жизни «маленьких людей», на судьбах которых сказался кризис венгерского общества межвоенного периода.

В сборник крупнейшего словацкого писателя-реалиста Иозефа Грегора-Тайовского вошли рассказы 1890–1918 годов о крестьянской жизни, бесправии народа и несправедливости общественного устройства.

«Анекдоты о императоре Павле Первом, самодержце Всероссийском» — книга Евдокима Тыртова, в которой собраны воспоминания современников русского императора о некоторых эпизодах его жизни. Автор указывает, что использовал сочинения иностранных и русских писателей, в которых был изображен Павел Первый, с тем, чтобы собрать воедино все исторические свидетельства об этом великом человеке. В начале книги Тыртов прославляет монархию как единственно верный способ государственного устройства. Далее идет краткий портрет русского самодержца.

В однотомник выдающегося венгерского прозаика Л. Надя (1883—1954) входят роман «Ученик», написанный во время войны и опубликованный в 1945 году, — произведение, пронизанное острой социальной критикой и в значительной мере автобиографическое, как и «Дневник из подвала», относящийся к периоду освобождения Венгрии от фашизма, а также лучшие новеллы.