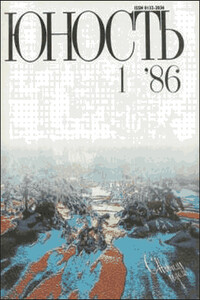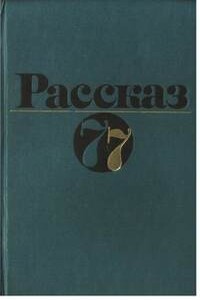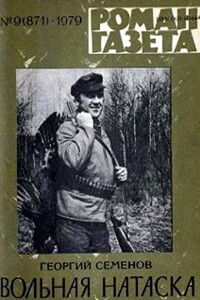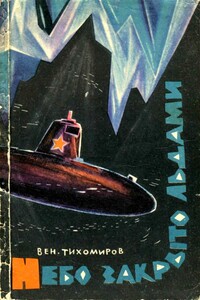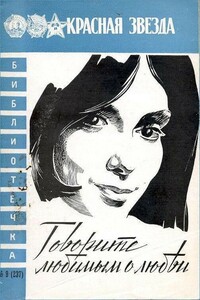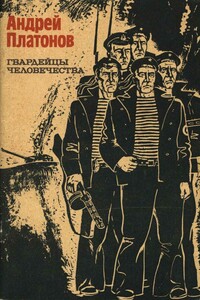— Что ж вы здесь одна? Проходите в дом… Прошу.
Она его сразу как-то разглядела; все в нем, в этом человеке, пришлось ей по вкусу: и удлиненный череп, и насмешливые глаза под серыми бровями, и кадык на небритой шее; как будто она давным-давно его знала, знала эту наголо стриженную голову, и сильную шею, и эти тяжелые руки с белыми большими ногтями, и эту мощную худобу тела…
И смущенная мгновенным своим прозрением, странным каким-то восприятием этого человека, который был на несколько лет старше ее мужа, смущенная его взглядом, она молча прошла перед ним, наклонив голову под низкой перекладиной двери. Но в темноте, коснувшись случайно его руки, отдернула тут же свою руку, уловив тепло той волосатой и сильной руки, с которой она столкнулась.
В комнате было чисто и пахло сухим теплом, которое шло от электроплитки. На стенах висели какие-то бледные карты, потертый морской бинокль. Стены были голубые и тоже бледные, как карты.
Герасим сидел на диване и разглядывал подводное ружье.
— Любопытная штука, — сказал он, когда хозяин, войдя в комнату, усаживал на тот же диван Шурочку. — Не встречал таких. Собственной конструкции?
— Да, — сказал хозяин. — Меня, между прочим, зовут Борисом.
Шурочка очень внимательно разглядывала ружье с пластмассовой рукояткой и смятенно думала о человеке, который, как ей казалось, разглядывал ее. Она все время чувствовала его взгляд. Но стоило ей оглянуться, как она убеждалась, что это ошибка.
В соседней комнате кто-то подметал пол, и Шурочка прислушивалась к шаркающим звукам, к шагам той женщины, у которой был такой интересный муж, такой странный, как думалось Шурочке, и в то же время понятный человек. И когда она подумала так, ей вдруг захотелось увидеть его жену.
«Она, наверное, красивая, — решила Шурочка. — С такими же, наверно, спокойными и хорошими глазами…»
И она невольно подумала, что люди эти никогда, наверно, не ссорятся. Но почему не ссорятся — не знала. Просто ей вдруг показалось, что такие люди не умеют ссориться, не умеют браниться, кричать и только отмалчиваются, когда недовольны друг другом.
Шурочка все время ловила себя на том, что дожидается встречи с женщиной, подметающей пол. Это было странно, и она старалась внутренне подшутить над собой, но ей не удавалось, и она, волнуясь, представляла себе женщину, которая подметала пол в смежной комнате. Она представляла ее красивой и широколицей, с бледным и чистым лицом. Она представляла ее над озером, полощущей тельняшку, которую носил ее муж, видела крепкие, набухшие силой ноги, и ей почему-то было обидно за себя, хотя рассудком она понимала, как все это глупо.
Но она знала и чувствовала, когда Герасим говорил Борису о лодке и когда тот кивал головой, соглашаясь дать лодку и отбуксировать ее на моторе в Мелюшку, — она чувствовала, что Борис странно посматривает на нее… Не случайно посматривает, а тайно. Каким-то внутренним своим чутьем она понимала, что именно тайно смотрит он на нее и потому-то не может она поймать его взгляда. Впрочем, она и не пыталась больше этого делать. Она была слишком поглощена своими неожиданными чувствами, своим борением с собой и с желанием понравиться этому стриженному наголо человеку с ясными глазами.
«Ну, конечно, — думала она, — это все те же мечты о жизни здесь, о листьях… Вот так бы я жила, в этой комнате, с этим сильным человеком, который так преданно умеет смотреть на людей. Солила бы на зиму огурцы с укропом, готовила свежую рыбу, которую он застрелил бы в воде из своего самодельного ружья…»
Она не прислушивалась к разговору, хотя и слышала мужа и Бориса, которые условились уже о встрече на пристани через полчаса и теперь говорили тоже о подводной охоте.
Она очень странно понимала себя в эти минуты, ощущая необычное, забытое чувство свободы. Она совсем не думала о Герасиме, не сравнивала его с Борисом и даже не помышляла об этом. Она просто не чувствовала в эти минуты мужа. Она представляла себя свободной, и это легко удавалось ей, потому что рассудком своим она понимала, что это все те же нереальные мечты о домике, о черной скамейке в саду и о листьях. И ей было легко чувствовать себя свободной, легко было остаться одной с этим мужчиной и полоскать ему белье в озере, и она не стыдилась быть счастливой в эти минуты забывчивости, потому как отлично понимала, что никогда не случится в ее жизни ничего подобного.
Но Герасим сам напомнил ей о себе. Он поднялся и положил руку ей на плечо. Рука его была теплая и нежная.
— Ну, все прекрасно, — сказал он Борису, — договорились. А если вы отказываетесь от денег, разопьем там с вами бутылочку… От нее, я думаю, вы не откажетесь.
И он засмеялся. А Борис сказал ему, когда он кончил смеяться:
— А в смысле работы, в смысле каких-то этнографических находок или как вы еще говорите — край там вообще интересный. Там большие глубины, и говорят, что именно там монахи утопили свои драгоценности — около Мелюшки. Но это, конечно, к этнографии никакого отношения не имеет, я понимаю…
«Боже мой! — подумала Шурочка. — Что же это?»
— …Но и сама деревня, — говорил Борис, — интересна, конечно. Там когда-то занимались резьбой по дереву, прялки украшали, деревянные блюда, тарелки… Только я не знаю, это ли вам нужно?