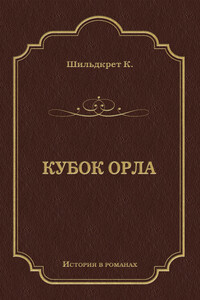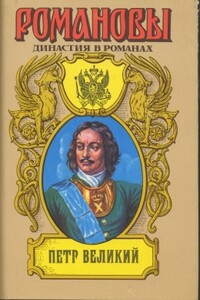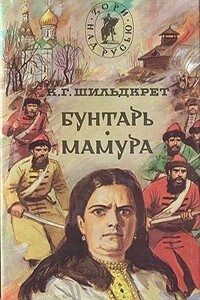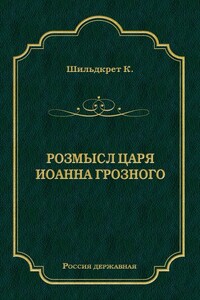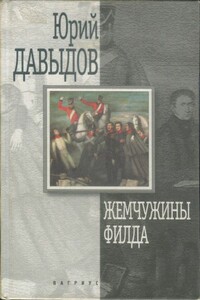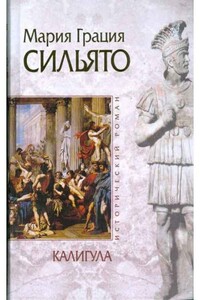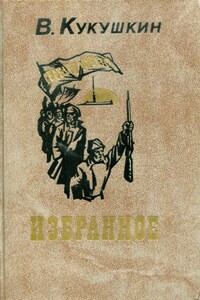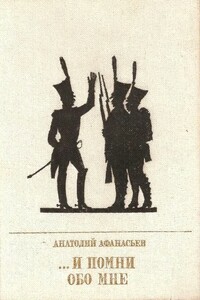Люди вздохнули с таким облегчением, будто не умелец, а сами дни избавились от неминуемой мученической кончины…
В государевом шатре никто не смел пошевелиться. Взоры всех были обращены на глубоко задумавшегося Ивана Васильевича.
Но вот царь заговорил. Голос его звучал властно и непоколебимо.
— Сюда его! — ткнул царь посохом в сторону Никиты. — Сюда его. Истину, мыслю я, рекут иерархи. Не божье то дело человеку ангелам уподобиться. — И повернулся к приказному. — Вычитывай, каково мы творим с богопротивными святотатцами и бунтарями.
Подьячий медленно, но громогласно и внятно вычитывал «вины» Выводкова. И в конце, набрав полную грудь воздуха, произнес:
— «…а тому крестьянишке Никешке сыну Трофимову по прозванию Выводкову за вины его тяжкие отрубить голову…»
Толпа всколыхнулась, послышались гневные выкрики, стенания, плач.
— «Птицу же, — продолжал читать подьячий, — богомерзкую птицу ту огнем пожечь…»
Выводкова схватили и, связав по рукам и ногам, бросили в заранее приготовленный возок.
В тот же день через одну из московских застав вышла на широкую заснеженную дорогу женщина. По левую ее руку шагал паренек лет пяти, а по правую двигался, спотыкаясь, словно слепой, пятнадцатилетний подросток. Из-под платка, которым была повязана голова женщины, выбивались седые пряди волос. Лицо ее избороздили серые лучи морщин. Глаза глубоко впали и казались пустыми, незрячими, точно мертвыми.
То, по постановлению Разбойного приказа, уходила из Москвы в неведомый путь превратившаяся за несколько часов в старуху, недавно еще цветущая, краснощекая красавица Фима. С ней шли Ивашка и не перестающий заливаться неслышным, горючим и безысходным плачем Матвейка.
К о н е ц
1945–1954