Крылатые слова - [3]
Указ исполнили. Описывали между прочими нижегородские десятины Костромского уезда, юрода Кинешмы и Кинешемского уезда поповские старосты (т. е. благочинные): «привез Воскресенский поп Стефан Дементьев с посаду и из уезду десять служебников печатных, да служебник письменной, да потребник печатной. Что приложено в них было прилог «огня» в водосвящение богоявленский воды в молитве: Сам и ныне Владыко, освятив воду сию Духом твоим святым, а прилог огня в том в одном месте в них замазали». И такие операции произвели в 12 случаях (см. «Русская Историческая Библиотека», изд. археологическою комиссиею, т. 2, Спб., 1876 г., под № 221).
Успокоившись таким образом на том, что замазали чем-то слово в книгах; но что могли предпринять против языка поповского, который, как и у всех простецов, оказался без костей и молол, по навыку? Легкое ли дело с таким легким словом бороться, когда натвердело оно в памяти и закреплялось на языке не один только раз в году, именно за вечерней под Богоявление, а срывалось с перебитого языка и пред Иорданью на другой день, и во многие дни, когда приводилось освящать воду в домах по заказу, и на полях по народному призыву, и на Преполовение, и на первого Спаса по уставу, и в храмовые и придельные церковные праздники для благолепия и торжества перед литургиями.
Стали спотыкаться на этом лишнем и запретном роковом слове чаще всех, конечно, старики-священники, у которых, по выражению царской грамоты, «обычай застарел и бесчиния вкоренились». Как его не вымолвить, когда сроднился с ним язык? Старый священник, хотя, по пословице, воробей старый, которого на мякине не обманешь, да и слово — тоже воробей: вылетит — не поймаешь. Стало быть, тут спор о том, кто сильнее? Догадливый и памятливый стережется не попасть впросак. Идет у него все по-хорошему, начинает истово и ведет по уставу косно, со сладкопением, не борзяся, а попало слово на глаза, то и пришло на мысль, что приказано: говорить его, или вовсе не говорить? А легкое слово тем временем село на самом кончике языка: и сторожит, и дожидается, когда ему спрыгнуть придет черед и время, и вылетит, что воробей: лови его. Да изъимется язык мой от гортани моея! В книге-то слово запретили, а в памяти тем самым закрепостили еще больше. А тут, вон и свидетели беды такой обступили со всех сторон; другие даже нарочно и уши насторожили, словно облаву сделали, как на какого-нибудь зверя.
В самом деле, как на тот раз и свидетелям быть спокойными и безучастными: скажет поп это слово и точно горячий блин схватил или проглотил ложку щей, с пылу горячих. Потянул с силой воздухе, тряхнул головой; иной и ногой с досады пристукнул и плечами покрутил. Обидчивый, и нетерпеливый с досады, надумал поправляться и опять налетал на беду. И дивное-то дело: смотрит поп в книгу, пред ним слова стоят, а он про огонь вспоминает, и про него говорит.
Так и сложилась в то время (и до нас дошла) насмешливая поговорка: в книгу глядит (или на воду глядит), а огонь говорит. С тех самых пор начал огонь жечь попа в особину, в исключение пред другими. Стала ходить вековечная, несокрушимая в правде пословица о неизбежности для всякого человека беды и греха, с новым привеском, вызванным полузабытым неважным историческим случаем.
Впрочем, только этою незлобивою насмешкою народ и покончил с церковным словом, смущавшим священников, но сам нисколько не убедился в том, чтобы легкой помаркой можно было покончить с великим смыслом и глубоким значением самого слова и объясняемого им предмета. С огнем не велит другая пословица ни шутить, ни дружиться, а знать и понимать, что он силен. Силен живой огонь, вытертый из дерева, тем, что помогает от многих при ток и порчей с ветру и с глазу, а, между прочим, пригоден при скотском падеже, если провести сквозь него еще не зачумленную животину. Божий огонь, то есть происшедший от молнии, народ боится тушить, и если разыграется он в неудержимую силу великого пожара, заливает его не иначе, как парным коровьим молоком. Огонь очищает от всякие скверны плоти и духа, и на Ивана Купалу прыгает через него вся русская деревенщина, не исключая и петербургских, и заграничных немцев. Святость огня, горевшего на свече во время стояний, на чтении 12-ти евангелий в Великий Четверг признается и почитается даже в строгом Петербурге, и непотушенные свечи из церквей уносятся бережно на квартиры. В местах первобытных и темных, где, как в Белоруссии, языческие предания уберегаются цельнее, почитание огня обставляется таким множеством обрядов, которые прямо свидетельствуют о том, что в огне и пламени не забыли еще старого бога Перуна. На Сретеньев день (2-го февраля) в тех местах, в честь огня, установился даже особый праздник, который зовется громницей.
В юридических обычаях еще с тех времен, когда люди находились в первобытном состоянии, огонь служил символом приобретения собственности. Вожди народных общин, вступая на новые земли, несли горящие головни, и вся земля, которую они могли занять в течение дня с помощью огня, считалась собственностью племени. Так как огнем же добыты от лесов пашни и у нас по всей Руси, то поэтому в древних актах населенные, при помощи таких способов, места постоянно называются огнищами и печищами. Около очага, около одного огня группировались потом семьи, из них вырастали целые села. Появилось в древней Руси прозвание пахарей огнищанами, справедливое в обоих значениях: от очага и дыма, и от расчистки срубленного и спиленного леса.
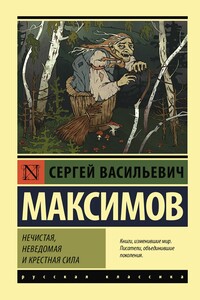
«Нечистая, неведомая и крестная сила» впервые была опубликована уже после смерти Сергея Васильевича, в 1903 году. Материал для книги автор собирал долгие годы во время своих пеших странствий по стране в поисках интересного этнографического материала. Книга погрузит читателя в загадочный мир верований, обрядов и праздников российского крестьянства; в мир, населенный прекрасными и жестокими русалками, капризными духами и жестокими оборотнями; в мир, не тронутый ни образованием, ни прогрессом, в котором христианство самым причудливым образом переплетается с остатками язычества. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
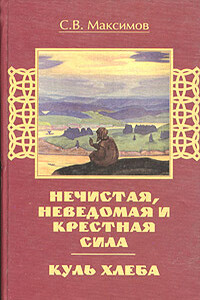
Хлеб — наша русская пища- Хлеб да соль! — говорит коренной русский человек, приветствуя всех, кого найдет за столом и за едой.— Хлеба кушать! — непременно отвечают ему в смысле:Милости просим, садись с нами и ешьВот об этом-то хлебе и об этом народе, возделывающем хлебные растения и употребляющем преимущественно мучную, хлебную, крахмалистую пищу, я хочу рассказать и прошу моих рассказов послушать. Как, по пословице, от хлеба-соли никогда не отказываются. Так и я кладу крепкую надежду, что вы не откажетесь дослушать до конца эти рассказы о хлебе или лучше, историю о куле с хлебом.

Книга С.В. Максимова (1831-1901) «Год на Севере» открыла целую эпоху в изучении Русского Севера, стала отправной точкой в развитии интереса к научному исследованию края. Это одна из крупнейших работ по этнографии данного региона в XIX в. Сочинение имеет исключительное значение, как с научной, так и с литературной точки зрения. Яркий стиль писателя, блестящее знание местных диалектных особенностей и исторических источников делают это сочинение выдающимся произведением литературы.
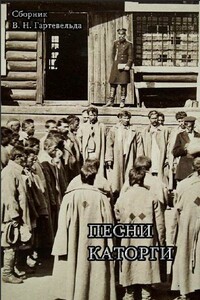
«Славное море, священный Байкал», «По диким степям Забайкалья» — сегодня музыкальная культура непредставима без этих песен. Известностью своей они обязаны выходцу из Швеции В. Н. Гартевельду; этот композитор, путешественник и этнограф в начале XX в. объехал всю Сибирь, записывая песни каторжан, бродяг и коренного сибирского населения. Концерты, на которых исполнялись обработанные Гартевельдом песни, впервые донесли до широкой публики сумрачную музыку каторжан, а его сборник «Песни каторги» (1912) стал одним из важнейших источников для изучения песенного фольклора сибирской каторги.
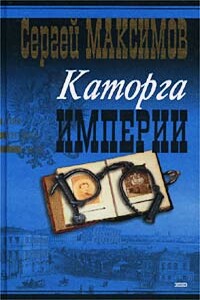
Книга С.Максимова `Каторга империи` до сих пор поражает полнотой и достоверностью содержащейся в ней информации. Рассказ об истории русской каторги автор обильно перемежает захватывающими сюжетами из жизни ее обитателей. Образы преступников всех мастей, бродяг, мздоимцев из числа полицейских ошеломят читателя. Но даже в гуще порока Максимов видит русского человека, бесхитростного в душе своей.Первое издание `Сибири` вышло тиражом 500 экземпляров для распространения только среди высших чиновников. В советские времена книга вообще не публиковалась.

Сборник рассказов и очерков о различных ремёслах русского крестьянства, раскрывающий патриархальный крестьянский мир, живущий по своим законам.
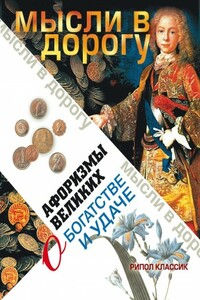
Как известно, афоризм — краткая форма мысли, наиболее точно выражающая отношение к тому или иному жизненному явлению. В этом сборнике собраны афоризмы на тему богатства и удачи.

Аль Капоне, Лаки Лучиано, Майер Лански, Пабло Эскобар – величайшие гангстеры в истории, которые прославились отнюдь не своими преступлениями, но цепкой деловой хваткой и острым умом. Отъявленные злодеи, негодяи и создатели синдикатов убийц, они, бесспорно, обладали яркой харизмой и не чурались самоиронии.Вашему вниманию предлагается уникальная энциклопедия черного юмора. Афоризмы самых прославленных криминальных боссов в истории, наиболее яркие и эксцентричные эпизоды из их жизни, а также цитаты из гангстерских фильмов лучших режиссеров ждут вас!
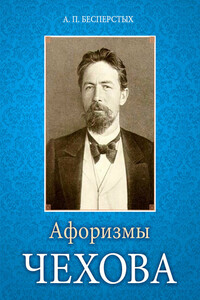
Словарь афоризмов Чехова – это собрание мудрых мыслей и советов, метких изречений и литературных цитат классика русской литературы, многие из которых надо рассматривать сквозь призму светлого и живительного чеховского юмора. Включены также «крылатые слова» типа лошадиная фамилия, дама с собачкой, унтер Пришибеев и образные выражения (интеллигентное бревно, отставной раб и др.) из произведений А. П. Чехова, выдающегося мастера русского слова.
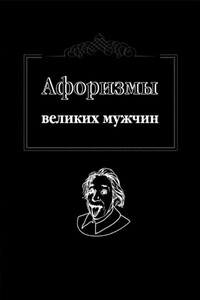
В сборнике собраны афоризмы, цитаты, высказывания известных мужчин. Это политики, воины, писатели, промышленники. Все они, без исключения, оставили свой след в истории. Многие из этих имен хорошо известны нам, но редко мы знаем, сколь интересные личности стоят за ними. Остроумные, меткие, глубокие афоризмы говорят о целях и образе действия мужчин, преобразовывавших этот мир, совершавших победы, строивших и защищавших империи. Сборник содержит статьи о жизни и творчестве знаменитых мужчин, чтобы читатель понял, в каких обстоятельствах формировались их характеры.
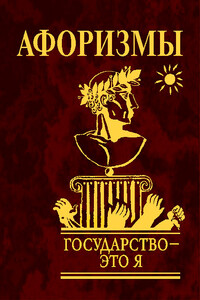
Какова роль истории в развитии человечества и каким, возможно, будет его будущее? Краткие, иногда простые, а иногда парадоксальные ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в собранных в этой книге афоризмах великих людей прошлого и современности. Что такое политика и кто такие политики? Существует ли на самом деле подлинно демократическое общество и что есть закон: высшее право или высшее зло? Какова роль государства в жизни человека?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.