Крик вещей птицы - [4]
Он выпил бокал лафита и подвинул к себе тарелку. Вот так, праведник. Пьешь чудесный лафит, услаждаешься роскошной снедью, а мужик замешивает в ржаное тесто мякину. У него — мутная толокняная похлебка, у тебя — стерляжья уха, куриное фрикасе, душистые ананасы, пролежавшие всю зиму в твоих благоустроенных погребах. Все законно. Ведь ты столбовой дворянин. Видный чиновник. Глава столичной таможни. В долгу как в шелку, а держишься в надлежащей форме. Старания доброй свояченицы. Покои убраны со вкусом, подаются изысканные яства. Да, но высшие-то петербургские сановники, пожалуй, только усмехнулись бы, глянув на твой стол. Граф Безбородко, могучий государственный воротила, на каждый званый обед кидает такую сумму, какой хватило бы на год жизни большой деревне. А князь Потемкин, этот небывалый вице-император, пребывающий ныне на юге, в Яссах, собирает в своей раззолоченной султанской палате сотни красавиц и обносит их за столом чашей с бриллиантами. Тут уж не деревня, а целый уезд может прокормиться, отдай ему одну только этакую чашу. Но государственные олимпийцы, пируя в своих дворцах, не видят и видеть не хотят, как живут люди внизу.
Он повернулся к свояченице. Она, оказывается, не читала, а, откинувшись на спинку кресла, тайком смотрела на него поверх раскрытой книжки, и взгляд ее был безнадежно тосклив. Захваченная врасплох, она тут же опустила глаза, зарделась, краска залила ее рябинки, и лицо вдруг стало девически юным, но в то же время и невыносимо жалким. Что с ней? Предчувствует близкую разлуку и тоскует — это понятно, а откуда такое смятение? Чего она устыдилась? Неужто… Но пощади ее, пощади, отвернись, дай прийти в себя.
Он отвел от нее взгляд и стал нехотя есть холодное фрикасе.
— Елизавета Васильевна, — заговорил он, будто ничего не заметил, — я уж забыл, что такое обыкновенная каша. Не слишком ли сладко живу?
Она помедлила и подняла глаза, немного успокоившись.
— Сладко живете? А как вы хотите? Как в Лейпциге? Читаю вот ваше «Житие» и дивлюсь. — Не сейчас, еще в прошлом году, сразу по выходе этой книжки, она прочла ее несколько раз и теперь хорошо знала, что пережили русские студенты в Лейпциге. — Удивляюсь, просто ума не приложу, как вы могли терпеть ужасные лишения.
Его мгновенно кинуло в далекий студенческо-бюргерский город, в холодные и мрачные норы средневекового дома, куда гофмейстер Бокум впихнул привезенных им из Петербурга дворянских птенцов. Да, отнюдь не сладко жилось там молоденьким посланникам императрицы под властью ее доверенного. Неприютно и голодно. Темные каморки и тесная грязная столовая. Капуста с горьким маслом и ненавистная тухлая зайчатина.
— Лишения, Елизавета Васильевна, были в самом деле ужасны. Бокум притеснял нас во всем. Но мы не терпели. С чего вы взяли? Мы протестовали. Мы наступали. И ведь в конце концов одолели. То была наша первая в жизни битва. Весьма поучительная. Подтвердились многие мысли Гельвеция, коим тогда мы зачитывались. Оправдались его слова о буре, очищающей гнилые стоячие воды. Мы поняли, как надобно бороться со злом.
— Однако где ваши борцы? Вас было двенадцать. Двенадцать будущих апостолов. Где они ныне? Я вижу только одного.
Он поднялся, подошел к Лизе, легонько коснулся рукой ее плеча.
— Я не один, голубушка. Кто-нибудь да отзовется. — Он вдруг задумался, опустил голову и медленно стал ходить взад и вперед, вспоминая и вызывая на поверку всех, кого в тот давний день, по-сентябрьски светлый, усаживали в казенные повозки. Шесть юных пажей и шесть их новых товарищей. Двенадцать. Почему, в самом деле, императрица решила послать именно двенадцать? Кажись, не случайно. Она хотела воспитать в Европе апостолов ее мудрых законов, обещаемых «Наказом», который тогда писала, положив перед собою сочинения Монтескье и Беккариа. От задуманных законов впоследствии отказалась. А что сталось с ее лейпцигскими посланниками?
Прощальное сентябрьское солнце сопровождало их несколько дней, его сменила холодная слякоть, дальше ехали мучительно тихо, повозки вязли в дорожном месиве, потом внезапно ударили морозы, колеса застучали по окаменевшей грязи, теперь продвигались быстрее, но сквозь промерзшую кожу кибиток проникала гибельная стужа, а зимней одежды гофмейстер (сам ехал в тулупе) не захватил, питомцы его зябли и, как ни жались друг к другу, все равно дрожали, синели, на ночевках согревались горячим чаем, утром, чтобы запастись теплом, тоже пили до пота, затем затягивались потуже в легкие кафтанчики и снова на холод, и один молоденький паж, Римский-Корсаков, милое дитя, чистый ангел, не выдержал, тяжело заболел и умер. Он пал первым, не преодолев четырехмесячной осенне-зимней дороги. Вторым погиб юный князь Несвицкий, но этот был все-таки постарше и, вопреки деликатной своей натуре, оказался довольно стойким, прошел почти все лейпцигские испытания, посильно поддерживал бунт и дожил до полной победы над Бокумом. Третьим оставил товарищей двадцатитрехлетний Федор Ушаков, вполне определившийся философ, который мог бы озарить Россию пылающей своей мыслью, но погас накануне возвращения на родину. Княгиня Дашкова, говорят, сильно возмущается. Какой-то, видите ли, малоизвестный Радищев воспевает в «Житии» какого-то совсем уж неизвестного студента. Но Гельвеций, сударыня, был Гельвецием и до книги «О разуме», и Цицерон был тем же Цицероном и перед первыми речами на форуме, которые покрыли его славой. Ушаков успел стать великим, но смерть отняла у него великие дела. Он достоин жизнеописания. Вот Лиза это понимает. Однако что с ней сегодня? Опять тоскующе смотрит через книжку… Паркет потемнел — ушло, видимо, солнце. Или опять затерялось в тучах? Врывается ветер, закрыть надобно дверь… Так. Теперь не дует, но совсем стало сумеречно. Ах, Ушаков, Ушаков, дорогой Федор Васильевич! Почто не вернулся ты в Санкт-Петербург? С тобой здесь жилось бы светлее. Минуло почти два десятилетия, как ты покинул сей неустроенный мир. А знаешь, вскоре умер и князь Трубецкой. Смелый ведь был юноша, горячий, но очень ранимый. С гофмейстером-то, в кругу друзей, сражался яростно, а звездоносные петербургские сановники сломали его играючи. Да, многие выбыли. Андрей Рубановский пребывает ныне в Москве.

Алексей Шеметов — автор многих прозаических произведений. В серии «Пламенные революционеры» двумя изданиями вышли его книги «Вальдшнепы над тюрьмой» (о Н. Федосееве) и «Прорыв» (об А. Радищеве).Новая историческая повесть писателя рассказывает о Петре Алексеевиче Кропоткине (1842–1921) — человеке большой и сложной судьбы. Географ, биолог, социолог, историк, он всю жизнь боролся за свободу народов. Своеобразные условия жизни и влияние теоретических предшественников (особенно Прудона и Бакунина) привели его к утопической идее анархического коммунизма, В.

Остро драматическое повествование поведёт читателя по необычайной жизни героя, раскроет его трагическую личную судьбу. Читатели не только близко познакомятся с жизнью одного из самых интересных людей конца прошлого века, но и узнают ею друзей, узнают о том, как вместе с ними он беззаветно боролся, какой непримиримой была их ненависть к насилию и злу, какой чистой и преданной была их дружба, какой глубокой и нежной — их любовь.

Тяжкие испытания выпали на долю героев повести, но такой насыщенной грандиозными событиями жизни можно только позавидовать.Василий, родившийся в пригороде тихого Чернигова перед Первой мировой, знать не знал, что успеет и царя-батюшку повидать, и на «золотом троне» с батькой Махно посидеть. Никогда и в голову не могло ему прийти, что будет он по навету арестован как враг народа и член банды, терроризировавшей многострадальное мирное население. Будет осужден балаганным судом и поедет на многие годы «осваивать» колымские просторы.

В книгу русского поэта Павла Винтмана (1918–1942), жизнь которого оборвала война, вошли стихотворения, свидетельствующие о его активной гражданской позиции, мужественные и драматические, нередко преисполненные предчувствием гибели, а также письма с войны и воспоминания о поэте.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга представляет собой философскую драму с элементами романтизма. Автор раскрывает нравственно-психологические отношения двух поколений на примере трагической судьбы отца – японского пленного офицера-самурая и его родного русского любимого сына. Интересны их глубокомысленные размышления о событиях, происходящих вокруг. Несмотря на весь трагизм, страдания и боль, выпавшие на долю отца, ему удалось сохранить рассудок, честь, благородство души и благодарное отношение ко всякому событию в жизни.Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся философией жизни и стремящихся к пониманию скрытой сути событий.
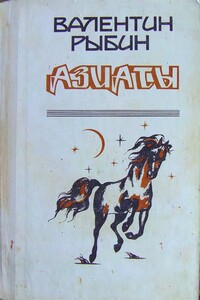
В основе романа народного писателя Туркменистана — жизнь ставропольских туркмен в XVIII веке, их служение Российскому государству.Главный герой романа Арслан — сын туркменского хана Берека — тесно связан с Астраханским губернатором. По приказу императрицы Анны Иоановны он отправляется в Туркмению за ахалтекинскими конями. Однако в пределы Туркмении вторгаются полчища Надир-шаха и гонец императрицы оказывается в сложнейшем положении.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.