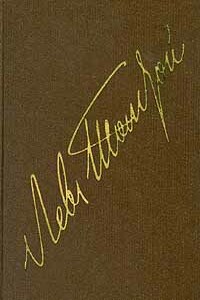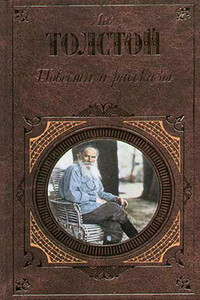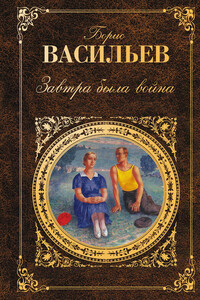Вечером он приехал со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась, не было тех нот, которые им были нужны, а которые были, жена не могла играть без приготовлений. Я очень любил музыку и сочувствовал их игре, устраивал ему пюпитр, переворачивал страницы. И кое-что они сыграли, какие-то песни без слов и сонатку Моцарта. Он играл превосходно, и у него было в высшей степени то, что называется тоном. Кроме того, тонкий, благородный вкус, совсем несвойственный его характеру.
Он был, разумеется, гораздо сильнее жены и помогал ей и вместе с тем учтиво хвалил ее игру. Он держал себя очень хорошо. Жена казалась заинтересованной только одной музыкой и была очень проста и естественна. Я же хотя и притворялся заинтересованным музыкой, весь вечер не переставая мучался ревностью.
С первой минуты, как он встретился глазами с женой, я видел, что зверь, сидящий в них обоих, помимо всех условий положения и света, спросил: «Можно?» – и ответил: «О да, очень». Я видел, что он никак не ожидал встретить в моей жене, в московской даме, такую привлекательную женщину, и был очень рад этому. Потому что сомнения в том, что она согласна, у него не было никакого. Весь вопрос был в том, чтобы только не помешал несносный муж. Если бы я был чист, я бы не понимал этого, но я, так же как и большинство, думал так про женщин, пока я не был женат, и потому читал в его душе как по писаному. Мучался я особенно тем, что я видел несомненно, что ко мне у ней не было другого чувства, кроме постоянного раздражения, только изредка прерываемого привычной чувственностью, а что этот человек, и по своей внешней элегантности и новизне, и, главное, по несомненному большому таланту к музыке, по сближению, возникающему от совместной игры, по влиянию, производимому на впечатлительные натуры музыкой, особенно скрипкой, что этот человек должен был не то что нравиться, а несомненно без малейшего колебания должен был победить, смять, перекрутить ее, свить из нее веревку, сделать из нее все, что захочет. Я этого не мог не видеть, и я страдал ужасно. Но, несмотря на то или, может быть, вследствие этого, какая-то сила против моей воли заставляла меня быть особенно не только учтивым, но ласковым с ним. Для жены ли или для него я это делал, чтоб показать, что я не боюсь его, для себя ли, чтоб обмануть самого себя, – не знаю, только я не мог с первых же сношений моих с ним быть прост. Я должен был, для того чтобы не отдаться желанию сейчас же убить его, ласкать его. Я поил его за ужином дорогим вином, восхищался его игрой, с особенной ласковой улыбкой говорил с ним и позвал его в следующее воскресенье обедать и еще играть с женою. Я сказал, что позову кое-кого из моих знакомых, любителей музыки, послушать его. Да так и кончилось.
И Позднышев в сильном волнении переменил положение и издал свой особенный звук.
– Странное дело, как действовало на меня присутствие этого человека, – начал он опять, очевидно делая усилие, для того чтобы быть спокойным. – Возвращаюсь с выставки домой на второй или на третий день после этого, вхожу в переднюю и вдруг чувствую, что-то тяжелое, как камень, наваливается мне на сердце, и не могу дать себе отчета, что это. Это что-то было то, что, проходя через переднюю, я заметил что-то напоминавшее его. Только в кабинете я дал себе отчет в том, что это было, и вернулся в переднюю, чтобы проверить себя. Да, я не ошибся: это была его шинель. Знаете, модная шинель. (Все, что его касалось, хотя я и не отдавал себе в том отчета, я замечал с необыкновенной внимательностью.) Спрашиваю, – так и есть, он тут. Прохожу не через гостиную, а через классную, в залу. Лиза, дочь, сидит за книжкой, и няня с маленькой у стола вертит какой-то крышкой. Дверь в залу затворена, и слышу оттуда равномерное arpeggio и голос его и ее. Прислушиваюсь, но не могу разобрать. Очевидно, звуки на фортепиано нарочно для того, чтобы заглушить их слова, поцелуи, может быть. Боже мой! что тут поднялось во мне! Как вспомню только про того зверя, который жил во мне тогда, ужас берет. Сердце вдруг сжалось, остановилось и потом заколотило, как молотком. Главное чувство, как и всегда, во всякой злости, было – жалость к себе. «При детях, при няне!» – думал я. Должно быть, я был страшен, потому что и Лиза смотрела на меня странными глазами. «Что ж мне делать? – спросил я себя. – Войти? Я не могу, я бог знает что сделаю». Но не могу и уйти. Няня глядит на меня так, как будто она понимает мое положение. «Да нельзя не войти», – сказал я себе и быстро отворил дверь. Он сидел за фортепиано, делал эти arpeggio своими изогнутыми кверху большими белыми пальцами. Она стояла в углу рояля над раскрытыми нотами. Она первая увидала или услыхала и взглянула на меня. Испугалась ли она и притворилась, что не испугалась, или точно не испугалась, но она не вздрогнула, не пошевелилась, а только покраснела, и то после.
– Как я рада, что ты пришел; мы не решили, что играть в воскресенье, – сказала она таким тоном, которым не говорила бы со мной, если бы мы были одни. Это и то, что она сказала «мы» про себя и его, возмутило меня. Я молча поздоровался с ним.