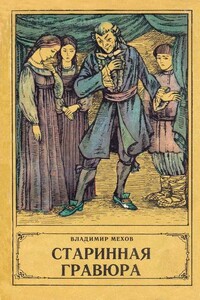Крестьянское восстание - [16]
– Эх, брат Илия, всем тебя бог наградил. Скажи-ка, святой отец! – обратился он к священнику, – разве нехорошо Илии, разве не живет он, как пчела в полном улье?
– Бог наградил Илию, – сказал священник, – потому что он добрый и терпеливый человек и умеет одолевать всякие невзгоды.
– Это верно, ей-ей! – воскликнул ускок и так ударил по столу кулаком, что мальчик перепугался. – Видно, что он человек стоящий. Но, послушай-ка, Илия, мне твой малыш говорил, что ты стрелял в турок. И по-видимому, малый не выдумывает, потому что вон на стене ружье и пистолеты в серебряной оправе. Хорошее, видать, оружие! Такого плугом не заработаешь, да и ворон из него не стреляют. Бьюсь об заклад, что эти красивые серебряные доспехи были за поясом у какого-нибудь турецкого пограничника и что Илия добыл их в поединке.
– Несомненно, – заметил священник.
– Так оно и есть, брат Марко, – подтвердил Грегорич, сидевший рядом с Катой.
– Но как же ты бросил ружье и взялся за плуг, кум? Ну-ка, расскажи!
– Раз ты меня просишь, – ответил Илия, – я расскажу, и не посетуй, если я вернусь несколько вспять. Надо тебе сказать, что родился я не в этом селе, а в Рибнике, там дальше, за Дубовцем, во владении Франкопанов. Франкопаны не плохие господа для кметов: пи кнута, ни побоев. Но они отважны, и кровь у них беспокойная, воюют с целым светом; а куда они с саблей, туда и их кметы с ружьями и копьями. Мне, брат, было тогда двадцать лет, кровь-то молодая. Проклятые турки владели «Никой, а наши часто и охотно наезжали к ним на кровавый пир. И у меня явилась охота к этому, привык понемногу к ружью и к ножу, а так как я был молод и храбр, то старшие меня не раз хвалили. Однажды (был тысяча пятьсот тридцать пятый год) мы дошли до Обровца; турки нас потеснили, мы его отдали. Немногие унесли ноги, а меня, раненого, захватили турки. Был я красивый и бедовый парень. Понравился туркам, и они все закричали: „Сделай обрезание, будь нашим“. Я сызмальства добрый христианин и душу за деньги не продаю. Но плен – страшная доля, а турецкий – просто смерть! Заковывают, бьют, морят голодом и жаждой; забываешь – человек ты или собака. Трудно мне было, знаешь, очень трудно. Как быть? Сказал турку: „Ладно, буду вашим“. Дураки и поверили. Сняли с меня оковы, накормили, напоили, дали денег, а один их почтенный поп стал меня учить, какой великий святой был их пророк. Я слушал все эти длинные литании, как будто меня сам Магомет родил, и вот наступил канун дня, когда мне было назначено обрезание и я должен был растоптать крест. Была ночь, темная ночь. Днем я веселился, угощал турок, ругал (прости меня, господи!) христиан и пил, да так, что они решили, что я совсем опьянел. Закрыл глаза, а они подумали, что я пьяный заснул. Но когда они захрапели, я открыл глаза, взял пистолет, нож и кошелек с цехинами, дополз до реки Земани, а там добрался и до моря. Нашел лодку, дал моряку половину моих цехинов, и он довез меня до Сеня, а оттуда я пришел домой. Прощай, Магомет! Но мне все же никак не сиделось на месте. Снова взялся я за оружие. Стоял со своим отрядом в Дубице. Это было в тысяча пятьсот тридцать восьмом году, когда баном был Петар Кеглевич. Господа Зринские, которым принадлежала Дубица, велели нам защищать ее. Были мы все молодцы как на подбор, но мало нас, а турок – уйма… Десять против одного. Как сейчас помню. Капитан послал около двадцати стрелков Зринского занять лесок над дорогой, по которой должны были пройти турки. Отправились мы на холм с песнями, хотя на душе было вовсе не весело, так как дело шло о нашей голове. Спрятались за дубы, зарядили ружья и стали ждать, что будет. Было, наверно, около полуночи. Луна стояла над рекой Уной, и я смотрел, как на воде играл ее свет. Вдруг послышался отдаленный шум, и вдали запылало. Гляжу, а на той стороне церковь горит. Вскоре на дороге взвился столб пыли. Сомнения не было – идут турки. Я присел за дубом и поставил ружье на колено. Вот из облака пыли показалось несколько всадников. Можно было хорошо разглядеть их чалмы, копья их сверкали в лунном свете. Впереди гарцевал смуглый турок на вороном коне; у седла его болтались две окровавленные головы. У меня застучало сердце, вскипела кровь. Подожди же! Прицелился, нажал курок. Грянул выстрел. Турок прохрипел „аман“ и рухнул навзничь, а его вороной взбесился и понес, волоча за собой в стремени полумертвого всадника. Из-за дубов выстрелы вспыхивали один за другим, как молнии, и прямо в гущу турок. Тут падает конь, там всадник; поганые пришли в замешательство, ругались, кричали. Мы были высоко, а они все на конях. Турок стекалось все больше и больше. Под горой они выстроились, натянули луки, и в лес полетел дождь стрел. Я слышал их свист, слышал, как трещат ветки и падают листья. Пустили стрелы во второй раз. Три воткнулись в мой дуб, а четвертая пронзила шею моего соседа. Он на месте испустил дух. Но наши пули сыпались на турок градом. Ежеминутно какой-нибудь конь взвивался на дыбы, кто-нибудь из всадников валился на землю. Наконец, они спешились, и с криком „аллах!“ орава повалила в гору. Первых мы уложили, по за ними шел второй ряд, потом третий, все больше и больше, а по дороге огромное множество их хлынуло по направлению к Дубице. Я крикнул товарищам отступать к замку. Мы стали отходить к Дубице. Слишком поздно! Путь был отрезан. Я потерял товарищей в лесу. Блуждал, блуждал, выжидая, поганые нас разыскивали меж деревьев. Погибать, что ли, зря? Не хотелось. Спрятался в кусты. Отсюда хорошо была слышна сильная стрельба. Наконец, Дубица запылала, турки взяли ее. На заре я спустился на дорогу и направился в сторону Костайницы; все было тихо. Я даже ружья не зарядил. Как вдруг вижу, за мной погнались на копях два босняка.

«Сокровище ювелира» – первый роман Шеноа и первый «настоящий» роман в хорватской литературе. В нем читатель найдет не только любовную линию, но и картину жизни Хорватии XVI века, из последних сил оборонявшейся от османского нашествия и все больше подпадавшей под власть Австрии, изображение средневекового Загреба, конфликты между горожанами и государственной властью. Шеноа с удивительным чутьем исторической правды раскрывает психологию горожан, священников, дворян, никого из них не идеализируя.
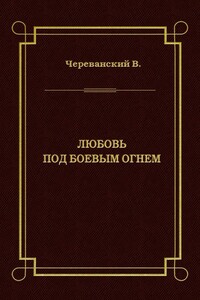
Череванский Владимир Павлович (1836–1914) – государственный деятель и писатель. Сделал блестящую карьеру, вершиной которой было назначение членом госсовета по департаменту государственной экономии. Литературную деятельность начал в 1858 г. с рассказов и очерков, напечатанных во многих столичных журналах. Впоследствии написал немало романов и повестей, в которых зарекомендовал себя хорошим рассказчиком. Также публиковал много передовых статей по экономическим и другим вопросам и ряд фельетонов под псевдонимами «В.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основе хроники «Два года из жизни Андрея Ромашова» лежат действительные события, происходившие в городе Симбирске (теперь Ульяновск) в трудные первые годы становления Советской власти и гражданской войны. Один из авторов повести — непосредственный очевидец и участник этих событий.

Отряд красноармейцев объезжает ближайшие от Знаменки села, вылавливая участников белогвардейского мятежа. Случайно попавшая в руки командира отряда Головина записка, указывает место, где скрывается Степан Золотарев, известный своей жестокостью главарь белых…
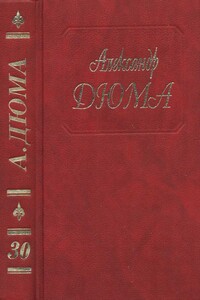
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.